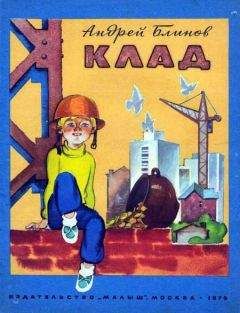Борис Блинов - Порт
— Можно мериться характерами, я понимаю, но будь справедлив, цени, уважай противника. Должно быть благородство к поверженному. Теперь, когда ты сбит, он обязан тебя простить, — напористо излагал Саша и смотрел на меня голубыми, страдающими глазами.
Я сижу, горячий кофе прихлебываю, с ним не спорю. Так и не смог его убедить, что вины на мне нет. Не чувствую ее. У него одно возражение:
— Понимаешь, кто угодно, но только не капитан. С капитаном нельзя. Это и в уставе записано: «Действия капитана не обсуждаются».
— Это придумано, Саша. Я весь устав перешерстил, там ничего подобного нет.
— И не надо, — быстро подхватил Саша. — Само собой разумеется, и каждый про это знает. Как ты, старый мореман, мог на капитана руку поднять, на авторитет, на престиж!
— Почему ты меня понять не хочешь? Не на капитана я поднял, а на грубую тупую силу, которая мной распоряжается. Я никогда не соглашусь…
— Нельзя, не прав ты, — горячась, перебил Саша. — Он знает, а ты не знаешь. Пойми, нельзя жить без авторитета. Пусть он с ошибками, пусть зарваться может, кутить, как купчик, Ляльку у Тольки увел — пусть. Он мой, понимаешь, мой капитан, я ему все равно верю и ни на кого не променяю. Мало ли кто кому не нравится. Он мне судьбой предписан. Может, у кого-то мать плохая или отец — так что же? — менять их, ниспровергать, искать новых? Нет, не обсуждать, плохих слов не говорить — принимать. Страдай молча и терпи. Он знает.
— Да что он такого знает-то! — взорвался я. — Как судно вести? Как с берегом связаться? Презент хороший хапануть?
— Нет, в нем идея, а значит, смысл и главная задача. А без него мы бессмысленны.
— Для меня смысл и справедливость — одно и то же, а он несправедлив.
— Нет, смысл выше справедливости! — убежденно сказал Саша. — Сначала смысл.
— Ну как знаешь. Я этого не понимаю.
— А не понимаешь, так слушай — молчи, смирись, проси прощения.
— Этого от меня не дождешься.
— Зря. Тебе надо остаться на судне любым способом. Ты здесь нужен, — убеждал Саша.
— А ты разве нет? — тоже за мной в пассажиры собрался.
— Так получается. Единства нет, понимаешь? Это моя слабость, — сокрушаясь, произнес Саша, и чистый юношеский лоб прорезали две морщины.
Толя заворочался в своем углу и сказал каким-то замогильным голосом:
— И моя слабость тоже.
Я понял, почему пахло французским одеколоном — Толя был на сильном взводе.
— Дай мне, у тебя есть, я знаю, — хмуро потребовал он, обращаясь ко мне.
— Кончай, — сказал я, — не ищи приключений.
— Дай, мне надо, — настаивал он с хмельным упорством.
Взгляд у него был тяжелый, мрачный, агрессивный. Я таким Толю не видел.
— Понимаешь, я ее знаю, она блажная, не знает, что делает. Но он об меня ноги вытер! Он должен ответить. Я знаю, как его наказать. Дай, мне дозреть надо, самую малость.
— Не надо, Толя, — принялся увещевать Саша. — Ты же на вахте. Возьми себя в руки, иди в центральный пост, хоть журнал заполни. Миша тебя скоро сменит, тогда как хочешь. А сейчас не надо. Напряженная обстановка. Успокойся, не растравляй себе душу.
— Ты-то что понимаешь! — вдруг озлился Толя. — О душе печешься! Может, она у меня вся сгорела! Одни клочья рваные по ветру летят. Что ты про это знаешь, отрок! Не попадал еще в передряги, чистеньким сидишь, умытым. Думаешь, и жизнь такая. А она вот какая! Да, и это любовь. И так она выглядит. И не тебе, щенку, меня осуждать!
— Да ты что, с болта сорвался! — вступился я. — Кто тебя осуждает? Он дело говорит, сдашь вахту — приходи.
— Нет, я в дерьме по самые уши, и он ответит. Думаешь, я не знаю, он силой ее взял! А мы все бессильны, сидим тут и хлебаем. Сколько можно смиряться! Действовать надо, на силу силой отвечать. Думаете, Охрименко деляга, приспособленец, подхалим! Я выступлю, взорву этот собачий дом. А на вас еще посмотреть, какие вы красивые. Праведники, на словах философствовать! Помнить станете Охрименко. Оцените, да поздно будет. Пожалеть такой малости! Я вас часто просил? Нет, только давал… А вы, для друга… Эх народ! — произнес он с горьким упреком. Поднялся с дивана и, оглядев нас с вызовом, решительно покинул каюту.
Саша сидел смущенный и подавленный.
— Разве я виноват, что мне такого пережить не довелось? — растерянно сказал он.
— Не обращай внимания, не в себе мужик.
— Я понимаю, но все-таки обидно, — расстраивался он.
— Вот видишь, и все же считаешь, что капитан хорош?
— Я не сказал «хорош», я сказал — «мой капитан», — вновь воодушевился Саша. — В общем и целом корабль он ведет правильно. Значит, он на месте и нельзя его трогать. Иначе не жизнь будет, а собачий дом, Толя прав. Тебе он не нравится — не подражай ему. Будь сам хорош, а на рожон не лезь, никого не исправляй насильно. Насилием не исправишь, только сломаешь или сам сломаешься. Примером можно исправить — для этого ты нужен, этим и живи. Надо жить, а не бороться.
— Я и живу.
— А ты шашкой машешь и никого, кроме себя, знать не хочешь. Остаться здесь — не только твое дело. Это для судна прежде всего необходимо, и для того же капитана. Может быть, для него даже больше всего. Не пострадает твое самолюбие, повинись перед ним, он только и ждет. Нужно серьезные шаги делать, а не кичиться собственной правотой.
Был в его словах смысл, и я готов был с ним согласиться, но не во всем.
— Не привык я, Саша, не проси. Мне через себя не перешагнуть, — сказал я. — Если я и нужен, как ты говоришь, то такой, какой есть, без приспособления.
— Все «я» да «я». Ты можешь немножко не о себе думать?
— Здравствуйте, приехали! Да мне для себя ничего не нужно.
— Плохо, если так. Но думаю, что не так. Сейчас он тебя позовет. Иди и помни, что ты не один.
— Откуда ты знаешь, что сейчас? — удивился я.
— Перед отходом, — сказал Саша, как само собой разумеющееся. — Через час, примерно, отойдем.
«Ну и что из этого?» — хотел спросить я. Но Саша потянулся к магнитофону, нажал клавишу, и голос, негромкий, искренний, запел:
Но выпито вино и бокал пустой,
Он снова перепутал и ушел с другой,
И она ждала другого, а отправилась с ним,
Быть может потому, что темно или дым…
— Тебе это нравится? — спросил я.
— Пусть поет, — сказал Саша, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза.
— Извиниться — значит соврать. Я же не чувствую себя виноватым, — попытался я продолжить разговор. Но Саша молчал, слегка покачивая головой.
Песня заполняла каюту и вытесняла из нее насущные дела. Я еще цеплялся за них сознанием, но другая жизнь врезалась клином, и трудно было ей противостоять. Промелькнула крышка трюма, и две сцепившиеся фигуры на ней, волны заплясали под бортом и унеслись догонять зарю, солнышко закрылось моросящим небом, и город, серый, родной, ущербный без нас, распластался, как в блюдце, в свале сопок — далекая и прекрасная жизнь, в которой поровну мужчин и женщин. Мы идем, торопимся к нему навстречу, гребем через тропики, экватор и Антарктиду и наконец вступаем счастливые, душа нараспашку: «У меня много! Я даю, дарю — возьмите! Я только и жду себя отдать!» И крик этот бьется в высокие стены и замирает над городом.
Дверка в Сашином камине светилась голубым, прозрачным светом, звала куда-то. Красные деревья отражались в воде изломанными стволами, будто небо опиралось на костыли.
Дверь каюты приоткрылась, и просунулась голова Коли Заботина:
— Вот вы где, а я вас ищу!
Саша очнулся и приглушил музыку.
— Иди, тебя вызывают, — кивнул мне Коля.
— Кто вызывает? — спросил я, хотя и понял.
— Сам. Мастер, — подтвердил он.
Ну вот и все. Кончилась песенка, спета. Покатался на белом пароходе, спокойной жизнью пожил, посмотрел заморские страны. Одна радость — интегралы брать научился да алгоритм находить. «Алгоритм, — сказал Саша, — путь решения задачи». Проще не скажешь. Умный все же Саша.
— Я с тобой! — быстро поднялся он.
— Непременно. Сейчас народ соберем и двинем демонстрацию. В защиту прав Обиходова! — озлился я.
— Ничего, мне можно, я от комсомола.
— Вот-вот, привыкли, чтоб за ручку водили. Сам-то человек чего-нибудь стоит? Или ему нужно всю жизнь за спины прятаться?
— Миша, пожалуйста, только не выступай. Молчи и соглашайся. Обещаешь? — не отпускал меня Саша.
— С чем соглашаться-то, чудак человек?
— Со всем. Пусть его говорит. А ты кивай, да, мол, осознал, исправлюсь, сделаю.
— Ладно, разберусь как-нибудь, — сказал я и вышел.
Советчик выискался, трам-тарарам. Что мы тут, в поддавки играем? Пойду я дальше или нет, дела не меняет, без меня ребята пойдут.
При подходе к апартаментам Лялька мне путь загородила:
— Подожди, поговорить надо.
Но я был зол на нее из-за Толи и не остановился.