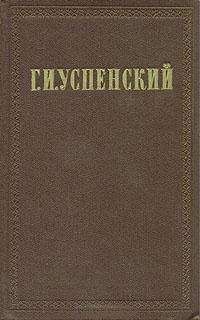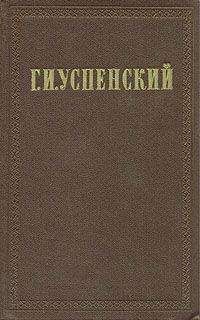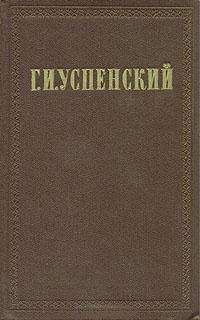А. Успенский - Переподготовка
Азбукин постоял на мосту и посмотрел на водомер. Вода в реке совсем спала. Неприветливо серели покрытые грязью, недавно вылезшие из-под воды, берега Головотяпы. На них лежал десяток плотов, пригнанных комхозом. На одном из плотов женщина полоскала белье и через реку громко разговаривала со своей знакомой, пришедшей за водой. А та, оставив ведра и поставив, как говорят в Головотяпске, руки в боки, сообщала, что она нанялась носить воду Фрумкину и вознаграждают ее за это полпудом в месяц. От плотов пахло сырой сосной. Неподалеку от берега вдруг повалил густой дым, точно на пожаре: головотяпский гончар начал свою работу. Где-то кто-то учился играть на духовом инструменте, и сдавленные звуки хрипло выли, обрывались, снова завывали, будто выла душа посаженного на цепь грешника. Тускло и грустно плыли медные зевающие гулы с колокольни древнеапостольской о. Сергея церкви, а по набережной ползли туда богомольные старушки. Грустна весна в Головотяпске.
V
Читальня, куда Азбукин направился с моста вздохов, называлась оффициально городской избой-читальней. Под таким именем она значилась и в списках уполитпросвета. Заведывавшая уполитпросветом молоденькая дама, жизнерадостная и гибкая, кокетничавшая напропалую с комсомольцами, смотрела на эту избу, как на одну из спиц в колесе своей начинающейся карьеры. Помещалась читальня в здании бывшего народного дома, за время революции переменившего чуть ли не десяток различных названий: и просто народный дом имени революции, и клуб имени Маркса, и клуб III-го интернационала, и красноармейский клуб. Не так давно в большом зале нашел себе пристанище головотяпский угоркоммол. Почти всегда в зале можно было встретить двух-трех комсомольцев, играющих в шашки; комсомольскую девицу, одетую в кожаную куртку и в штаны — не в штаны, а, скорей, — во что-то штаноподобное, так что не знавшему ее человеку трудно было сказать, какого она была пола; маленького комсомольца почему-то несшего бессменное дежурство в угоркоммоле; наконец комсомольца, по прозвищу «Воперь», который был в головотяпском угоркоммоле с самого основания его, пережил все смены угоркомсомольских кабинетов, говорил всегда от имени правящих головотяпских сфер: мы постановили, и который, в сущности, отличался одним достоинством: умел виртуозно насвистывать.
Читальня помещалась в примыкавшей к залу длинной корридоробразной комнате, и в том месте, где комната выдавалась к окну, в углублении стоял стол с газетами. За столом сидели два головотяпских комиссара и Секциев.
Один из комиссаров — Лбов — был необыкновенно серьезный человек: у него был нахмуренный высокий лоб мыслителя, и носил он постоянно очки в золотой оправе, которые тоже значительно придавали ему серьезности, потому что видевшие его без очков говорили: без очков он не так серьезен. На съездах и собраниях Лбов обыкновенно выступал с длиннейшими цифровыми данными из газеты «Экономическая Жизнь», которую он один только и читал в Головотяпске. Эти данные Лбов для большего эффекта заучивал наизусть. А потом говорил по вдохновению и выпивал во время своей речи обязательно не меньше графина воды. О чем он говорил? Обо всем и ни о чем; его обыкновенно не слушали, дремали и спали на его докладах, но за ним твердо и неоспоримо утвердилась репутация: наш ученый. И заметьте, — прибавляли при этом, — Лбов никакого образования, кроме низшей школы, не получил. Самородок! Лбова даже на черную партийную работу не назначали: редко он мотался по различным двухнедельникам, недельникам, субботникам, редко погружался в продналоговое море. Зато он школу открыл, в которой почти один читал лекции, клуб завел, где устраивал вечера самодеятельности и где, кстати, пользовался квартирой и дровами. В данный момент Лбов читал журнал «Крокодил», избрав его, вероятно, в качестве третьего, сладкого блюда после «Правды» и «Экономической Жизни». Но сладкое, должно быть, не вполне удалось, и на лице Лбова, в пренебрежительных складках, идущих от носа вниз к усам, отразилось недовольство.
Второй из комиссаров отличался отсутствием и учености, и дара слова. Удивительно он был молчалив! Целый род должен был потрудиться, чтобы природа произвела такого молчальника: прадед его, надо полагать, был склонен к молчанию, дед развил его свойство, отец утроил или учетверил и — вот появился, как венец, как завершение рода, как оправдание поговорки: слово серебро, а молчание золото — комиссар Молчальник. На собраниях он совсем не выступал, хотя постоянно в первом ряду виднелась его энергичная фигура. Да и в беседе он ограничивался больше односложными: да, нет, так. Мысль его больше выражалась в жестах. Вот он энергично кивнул головою, словно поставил точку, и собеседник здесь обязательно должен остановиться, — такова сила Молчальника. Молчальник сомнительно качает головой и будто зачеркивает то, что сказал собеседник — последний начинает сомневаться в своих словах. Но вот он махнул головой в знак того, что соглашается с собеседником и рукой хлопнул по столу, — широкой рукой и — будто подчеркнул слова собеседника, будто написал их курсивом. Зато незаменим Молчальник на практической работе. Как он энергичен! Посмотрите на одну его походку: он не ходит, а подпрыгивает, точно тайные упругие пружины отталкивают его от земли. Вы невольно уступите Молчальнику дорогу при встрече, — таким требованием дышит вся его округленная, ловкая, напористая фигура. Совсем не заглядывают в Головотяпск отечественные художники, а жаль: они нашли бы богатейший материал для своих картин и невыразимая словами фигура Молчальника одной из первых попала бы на полотно. Не проходило ни одного двухнедельника, недельника, субботника, в которых не участвовал бы Молчальник, и проводил он все это успешнее, чем его коллеги.
Как он умеет разговаривать с крестьянином, ценящим в человеке, и особенно в начальнике, уменье говорить кратко и выразительно — ядрено, как вообще ядрено все в нашей деревне, начиная с прелестного запаха цветущих полей и кончая запахом навоза! Усердие его было безгранично, и, бог весть сколько анекдотов родила эта безграничность. За свое усердие при генеральной чистке партии, Молчальник был исключен из партийных списков. Исключение это длилось, однако, не долго. Чистившие головотяпскую организацию были людьми приезжими из губернского города. Вскоре они уехали не только из Головотяпска, но и совсем из губернии; свои же, головотяпские, коллеги, конечно, знали всю подноготную каждого из своих собратьев. Они, справедливо, не могли не смотреть на обвинение Молчальника в разного рода проступках, иначе как на мелкобуржуазную клевету, и снова Молчальник занял место в рядах головотяпских комиссаров. Состоит ли еще суровой чистильщик, — принципиальный губернский комиссар, приезжавший в Головотяпск, — в числе комиссаров, — кто знает? Говорят, он учится где-то, студент; а Молчальник, как состоял комиссаром, так и состоит. И его ценят, и с ним считаются, — и хозяин его квартиры, словоохотливый и буйный во хмелю, хлебнув самогонки, кричит на свою улицу:
— Чего же мне не пить? А? Ежели у меня живет такой комиссар. Во какой комиссар!
В тот момент, когда Азбукин вошел в читальню, Молчальник уткнулся в «Известия», и трудно было угадать, что он читает.
Третий был Секциев. И фигура его, и одежда, и черты лица, и даже самое выражение лица, и глаза, и уши, — все у Секциева было незначительнее и мельче, чем у сидевших против него. Те сидели энергичные, уверенные в себе, а в Секциеве не было этой уверенности: в нем была некая неопределенность, серость. Например: при первом взгляде лицо Секциева казалось угреватым, при детальном рассматривании угрей не оказывалось, а была местами кое-какая краснота. Были у него и усы, и небольшая бородка, но так как он то их носил, то сбривал, — то если бы спросить даже его ближайшего знакомого: закройте глаза и представьте лицо Секциева — есть ли у него борода и усы — знакомый Секциева, застигнутый врасплох, сказал бы: право, не знаю. Вряд ли бы Секциев попал на полотно художника, заглянувшего в Головотяпск, — лучше всего изобразить его можно словами.
Секциев раньше был не Секциев, а Ижехерувимский. До революции эта фамилия была для Секциева своего рода прибавочной стоимостью. В кругу головотяпского духовенства его определенно считали своим, хотя он и служил в земстве. Может быть, он и регентом церковного хора сделался благодаря своей фамилии. Но, когда разразилась революция, Секциев призадумался: слишком кричала о нем его фамилия. Пусть бы он был какой-нибудь Вознесенский, Воскресенский, Предтеченский, — это куда бы еще ни шло. Сколько на свете существует Воскресенских, которые и совсем не похожи на Воскресенских! Посмотришь на Воскресенского: этакий франт в галифэ, френче, а на лице ни черточки елейности, богоугодности, — лицо вполне лойальное, благонамеренное, так что невольно забудешь его настоящую фамилию и назовешь его как-нибудь иначе. Но тут — Иже-хе-ру-вим-ский.