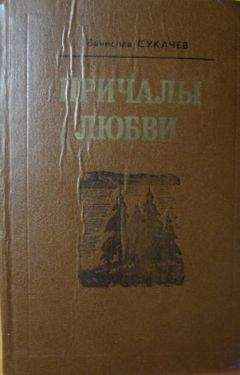Вячеслав Сукачев - Вилена
— И елочка во дворе за ночь выросла, — сказал отец тихим голосом, в котором чувствовалась легкая улыбка. — Да сразу с игрушками, нарядная.
— Вилена, доченька, — сонно сказала мама, — растопите, пожалуйста, с папой печку, а я сейчас встану.
Внизу, у печки, почему-то особенно холодно и неуютно. Все кажется чужим и чуть ли не враждебным. Перед топкой небрежно валяется обувь Аглаи Федоровны, конечно же, сырая. Она даже не знает, что обувь надо ставить в припечек или на загнеток.
С вечера заготовленные сухие щепки загораются от крошечного кусочка бересты. А через пять минут в топке начинается ровный упругий гул, который так любит слушать Вилена. Все меньше становится дыма, огненные завитки постепенно сливаются, и вот уже единое пламя, синеватое внутри, выгнутое в сторону дымохода, туго бьется в кирпичные стены, облизывает чугунную крышу и, наконец, бросается к темному, закопченному выходу. Тяга большая и Вилена немного прикрывает вьюшку, чтобы тепло сгорающих дров успевало накалять хитрые проходы обогревателя, идущего колодцами вдоль всей печки. Про колодцы и обогреватель она знает потому, что прошлым летом вместе с отцом помогала старому печнику. Не уставая рассказывать про секреты своего мастерства, этот печник как-то необыкновенно ловко поворачивал кирпичи в крупных красных руках. Например, он говорил, что раньше печи клали так, чтобы на них и лежать можно было. Вроде бы их сбивали из глины большими деревянными молотками… Внутри такой печи мог выпекаться хлеб, круглый, с хрустящей корочкой, а наверху одновременно могли спать и согреваться люди. Такое трудно себе представить, но…
— Вилена, ты уже растопила? — удивленно спросил отец, спускаясь по лестнице. — А я пока очки нашел… Хорошо, я в таком случае пошел за дровами.
Вода, пролившись из чайника, сворачивается в маленькие мутные шарики и ошпаренно катится по раскалившейся плите.
Вилена надевает свою шубку, шапку, повязывает длинный шерстяной шарф и в маленьких аккуратных валенках выбегает на улицу. На веранде она сталкивается с отцом: высоко вскинув голову, почти ничего перед собой не видя, он несет огромную охапку сухих березовых дров.
На улице свежо, чисто, снежно. Невысокое еще солнце в радужном ореоле — к морозу, который Вилена ощущает почти сразу же: он пощипывает уши и щеки, заставляет спрятать руки в карманы шубки.
Вокруг елки сильно припорошенные следы — большие и поменьше. Все понятно: Кира увязалась за Мишей.
Елка пока что почти как живая: еще густо-зелены ее иглы, упруги широкие ветви, не шелушится и но осыпается кора. Но через неделю, через две она умрет, а затем скорее всего сгорит в их печке, как горят в ней сейчас березовые поленья, некогда бывшие белоствольными деревьями. Глупо, конечно, устраивать сюрприз за счет погибшей елочки.
Вилена медленно обходит елку, потом быстро большими буквами пишет на снегу: «Неспасибо тебе!» Немного подумав, она решительно собирает игрушки с елки и этими игрушками выкладывает свои слова. Теперь даже издалека видно, что написано на снегу: «Неспасибо тебе!» На восклицательный знак ушла очень красивая, яркая сосулька.
Проваливаясь в рыхлом снегу, Вилена медленно идет в сторону леса, но так и ие доходит до него, потому что в валенки набился снег, растаял и вымочил ноги. Она поворачивает к даче и видит, как сказочно красив сейчас их домик, по самые окна затопленный сугробами, с ровным синим столбом дыма над острой двускатной крышей. А вон и окно ее спальни, вновь расписанное морозом…
Когда Вилена возвратилась, все уже встали, умылись и теперь сидели за большим столом, молча наблюдая за тем, как мама готовила яичницу с ветчиной.
— Вилена, доченька, ты не замерзла? — обеспокоенно повернулась к ней мама, гладко причесанная, со слегка подкрашенными ресницами — красивая, строгая, какой она бывает по вечерам на экране телевизора.
— Виленочка, девочка, умывайся и садись за стол. — Аглая Федоровна доброжелательно смотрела на нее крупными, бесцветными со сна глазами. — Сейчас будем завтракать.
Дрова в печке прогорели, и теперь она дышит ровным, устойчивым теплом. В комнате слегка пахнет угаром — это от пролившегося на плиту жира. Теперь хорошо бы сесть на низкую скамеечку, привалиться спиной к жаркому обогревателю и немного почитать Фенимора Купера. Представить себя на месте изящной и смелой Мэйбл Дунхем и избрать в спутники, конечно же, не Джаспера Уэстерна, а великодушного и доброго Следопыта, быть ему женой и дочерью одновременно, спасти его от старости. Нет, как все было бы хорошо! Они бы поселились в большом двухэтажном доме на берегу Онтарио и по вечерам разжигали в гостиной большой камин…
— Доченька, иди кушать.
— Я не хочу.
— Как же не хочешь? — изумляется Аглая Федоровна. — Завтрак не мамина прихоть, завтракать надо обязательно. Это непреложное условие для всякого, кто хочет сохранить свой желудок в здоровом виде…
— Да, Виленочка, Аглая Федоровна права, — рассеянно говорит мама.
Завтрак проходит в неспешных разговорах, крутящихся все вокруг одного — предстоящей лыжной прогулки. Но уже ни у кого нет вчерашнего подъема, никто не горит желанием поскорее разделаться с завтраком и встать на лыжи. Даже Аглая Федоровна сникла, и стали заметнее мелкие морщинки в уголках ее глаз. Отец неуверенно заметил:
— Я, собственно, хотел сегодня полистать журналы…
Но тут мама неожиданно категорично и горячо заявила:
— Эрик, в таком случае я тоже не иду на прогулку.
— Ох, уж эти мне прогулки! — тяжело вздохнул отец и пошел наверх переодеваться в лыжный костюм.
Неумело отталкиваясь палками, он последним уходит по лыжне. Вилена еще некоторое время медлит у калитки, а потом круто сворачивает в сторону леса.
Под грузом снега отяжелели лапчатые ветви кедров. Густые кроны вечно моложавых пихт и елей оделись в пушистую кухту. А тонкие и такие ломкие на вид веточки берез превратились в волшебные гирлянды из сверкающего инея и снега… На посветлевших зимою липах и осинах яснее стали выделяться курчавые зеленые шары омелы, похожие на большие птичьи гнезда, щедро усыпанные бусинками оранжевых плодов.
Однажды Вилена сорвала такое «гнездо» и с отвращением переломила жирно-зеленую веточку, неожиданно упругую, со светло-волокнистой мякотью внутри. Что-то было отталкивающее, неприятное даже на взгляд в этой омеле, уже успевшей иссушить молоденький ствол поблекшей осинки. И Вилена, морщась и страдая, брезгливо отбросила этот ядовито-зеленый клубок, беспечно покатившийся на дно неглубокого оврага.
Когда она свернула на свою поляну и увидела безобразно высокий, в белых потеках содранной коры еловый пенек, она лишь глубоко вздохнула и долго смотрела перед собою ничего не видящими глазами. Ей показалось, что лес потемнел, деревья сгорбились и отвернулись от нее, и даже старый пенек, еще вчера так задиристо разглядывавший ее, поглубже надвинул снежную шапку, словно бы не желая встречаться с ней глазами. Она вспомнила слова, выложенные игрушками с этой елки, молча развернулась и медленно побрела в сторону дачи.
— Ленка! Ты где пропала? — встретил ее возле дачи весело улыбающийся Миша, поправляя сбитую набок красную шапочку. — Я уже весь лес объездил, а тебя нигде нет.
Вилена молча прошла мимо него.
— Ленка! Ты чего? — удивился Миша. Он забежал вперед и заступил ей тропинку.
— Ничего, — тихо ответила она.
— Кончай губы дуть! Поехали на горку.
— Ты читал? — одними губами спросила Вилена, глядя мимо Миши.
— Что? — не понял он.
— Там, возле елки…
— А что там? — Миша удивленно крутнул головой.
— Сходи и прочитай.
Вилена отстегнула лыжные замки, обошла Мишу и поднялась на крыльцо веранды.
— А на горку? — крикнул Миша, растерянно шоркнув варежкой ниже носа.
Покачивался замок на дверной ручке, где-то в снегах утонуло короткое эхо да сорвалась откуда-то из-за дачи небольшая стайка снегирей, веером расплеснувшись по лесу.
Домой они возвращаются поздно вечером. При свете фар дорога кажется другой, незнакомой, ведущей в незнакомый город со множеством домов, расцвеченных изнутри плоских окон всеми цветами радуги. И теперь даже не верится, что за всеми этими окнами находятся люди, очень много людей, разгороженных тонкими кирпичными простенками, узкими дворами и широкими улицами.
Заканчивается выходной день, и люди торопятся прожить его, чтобы завтра с утра начать новый.
— И вот один профессор приходит в зоопарк, — говорит за спиною Феликс, — и видит там шимпанзе…
Если закрыть глаза и немного посидеть так, с закрытыми глазами, а потом резко открыть их — огни всех домов как бы бросаются к тебе навстречу, и в самом их центре можно на мгновение разгадать эту пугающе тяжелую и призывную глубину, как на картине Айвазовского… Люди давно подметили и любят сравнивать все необычное, мало понятное им, с глубиной: глубокий простор, глубокая тишина, глубокий сон… Простор — это когда смотришь с горы до самого горизонта и речка Сиротинка без устали петляет по долине, сморщенной небольшими холмами, распаханными под колосовые. Глубокая тишина — это когда под козырьком на веранде вдруг замолкают мама и Мишин папа, так похожий на безобразный шкаф… Глубокий сон — это Северное Сияние, ее, Вилены, беспредельное царство с верными подданными, над которыми без конца и начала…