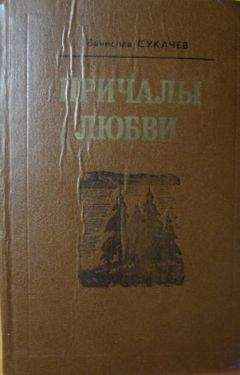Вячеслав Сукачев - Вилена
Вилена трогает еловую ветвь, склоняется над нею и пробует различить ее запах. Едва уловимо пахнет хвоей, смерзшимся снегом и слабым теплом, которое живет внутри каждой иголки под тонкой зеленой кожицей.
А вон тот пенек — разве не сказка? Вилена улыбнулась, разглядывая его. Стоит под большой снежной шапкой, кругляшки от срубленных сучков совсем как глаза и рот, лопнувшая кора в аккурат на месте носа, немного Кривого и тонкого, но так даже лучше. Вид у пенька озорной, задиристый. И вот уже и самой Вилене хочется поправить вязаную шапочку, подбочениться — ответить на молчаливый вызов, войти в сказку.
— Вилена, доченька-а! — кричит мама. — Ты куда пропала-а-а? Немедленно иди помогать!
Вилена вздыхает, ласково проводит пальцами по шероховатой, грубо мужской коже пенька, потом приседает и быстро пишет пальцем на снегу: «Я скоро вернусь». Эти же слова она повторяет шепотом и долго пятится от пенька, который на расстоянии из забияки превращается в поникшего, кем-то обиженного мужичка. Конечно, ему не угнаться за красавицей елью, она и смотреть-то на него не хочет, для нее только солнце да ветры поют нескончаемые песни да манят далекие снежные вершины, куда даже ей навеки заказан путь…
— Доченька, разве можно так? — спрашивает мама. — Посмотри, все взрослые работают, одна только ты у нас бездельничаешь. Нехорошо, Вилена. Папа уже воды принес, печку растопил, мы с Аглаей Федоровной посуду перемыли, ужин готовим, Феликс вещи из машины принес, и только ты еще ничего не сделала. Почисть, доченька, картошку, а потом приготовишь наверху постели. Хорошо?
Аглая Федоровна усиленно гремит посудой, усиленно не слышит, что говорит мама, не смотрит в их сторону, но Вилене сразу все становится понятно.
Вилена садится поближе к печке, берет столовый нож и начинает чистить картошку. Вначале ей это занятие не нравится, и она большие круглые картофелины превращает в маленькие кубики. Но вскоре попадается презабавная картошина, которая чем-то смахивает на Аглаю Федоровну. Она тоже какая-то плоская, с длинной головой на длинной шее, и у нее тоже торжественно-назидательный вид, словно бы картошка сейчас начнет всех учить, как надо из маленькой картошины выращивать крупные, настоящие клубни. Вот только здесь надо немного подрезать, а здесь — проявить тонкие губы и обязательно так, чтобы верхняя накрывала нижнюю, а теперь можно поставить на припечек и вволю смотреть!..
— Вилена, девочка, что это ты такая веселая? — спрашивает Аглая Федоровна. — Тебе нравится чистить картошку? Ну-ну, продолжай.
А вот эта круглобокая картофелина — чем не Феликс? Только надо сверху воткнуть спичку и на нее посадить тоже кругленькую маленькую картошинку. И поставить вот так, рядом… Тогда совсем ум-мора…
— Хм, — поджимает тонкие губы Аглая Федоровна. — Смеяться одной в обществе взрослых, Вилена, считается неприличным. И знаешь — почему? У взрослых может создаться впечатление, что смеются над ними.
Вилена выбегает на крыльцо и здесь сталкивается с покуривающим сигаретку Феликсом.
— Виленочка, дорогуша! — изумляется Феликс. — Первый раз вижу тебя веселой! Что произошло? Что стряслось в этом мире?
Феликс пучит на нее свои добрые рачьи глаза и всплескивает короткими руками, в самом деле озадаченный столь бурным весельем. Но разве можно удержаться от смеха, когда после картофельного смотришь на живого Феликса? Когда у него такой вот кругленький живот, а у Аглаи Федоровны…
В спальне — она располагается на втором этаже все еще холодно. Скрипят морозные половицы, густо пар валит от дыхания, спину без шубки сразу пробирает мороз, который через неделю, в следующую субботу, станет Дедом и придет на праздничную елку. Кружевницы, белошвейки Деда Мороза разукрасили окна в спальне тончайшими узорами. Сложные линии, каждая тоньше паутинки, замысловато переплетаются, чертя самые неправдоподобные сюжеты и мотивы. Можно часами стоять и смотреть на это чудо, оно кажется вечным, никаким силам не подвластным… Но вот уже первая капелька появляется в верхнем углу стеклянного квадратика. Она потихоньку полнеет, набирается сил и скоро, очень скоро вырвется из своего угла и покатится по этим чудо-кружевам, оставляя после себя светло-молочную разрушительную полосу — будто метеорит пронесся по тунгусской тайге. Крохотный уголок, из которого вытаяла капля, начнет расти и постепенно опускаться вниз, начисто слизывая волшебное рукоделие, но зато за ним, за этим пространством, освобожденным ото льда, проявится, как на фотопленке, целый мир: со снегом, тайгою, птицами и зверями и высоким белесоватым небом, наискось перерезанным тающим следом самолета…
— Вилена, мама передала тебе шубу, — поднялся в спальню отец. — Надень, пожалуйста.
— Папа, — Вилена пристально смотрит на него темно-синими глазами, — а как звали твою бабушку?
— Мою бабушку? — удивленно тычет указательным пальцем в переносицу отец. — Гм-м-м… Ее звали Регина Эрнестовна.
Ужинают они уже затемно. Электричества на даче нет, и потому зажигают сразу три толстые свечи: одну ставят на старый кухонный шкаф, вторую в центре круглого стола, а третью свечу держит в руках отец, не в силах сообразить, куда ее можно пристроить. Огонь от свечей особенный, это Вилена заметила давно: внутри свечного огня есть как бы еще один огонек, поменьше и побледнее. Но именно этот внутренний огонек, если на него долго смотреть, вдруг превращается в самые разные загадочные фигуры… Вот эта, отдаленно похожая на человеческую, стоит как бы на воткнутых в землю шпагах, а голова у нее муравьиная, и эта более чем странная фигура тоже внимательно смотрит на Вилену, глаза у нее очень выпуклые, даже не так — выдвинутые вперед и медленно вращаются вокруг оси, а внутреннее пятнышко зрачка остается неподвижным. Потом Вилена припомнит, что…
— Эрик, мы ведь тебя ждем, — громко говорит мама. — В конце концом, поставь ее на припечек! А ты, доченька, можешь включить магнитофон. Мы же отдыхать приехали…
— Да-а, можно вообразить, что сейчас творится у Горелкиных, — многозначительно произносит Аглая Федоровна.
— Чего там, они отдыхать умеют. — Мама вздохнула.
— Кстати, про отдых, товарищи. Приходит однажды муж домой и видит…
Музыку, которая сейчас звучит, Вилена не любит. Особенно не любит она очень модную певицу, большеротую, заплывшую успехом. Вилене больше нравятся тихие лирические песни, которые можно петь, не размыкая губ, про себя. Тогда успеваешь многое: петь и думать о деревенском вечере у маминой бабушки, когда на озере кричат гуси, а девчата уже идут с дойки и поют частушки. Так было в прошлом году летом в деревне у небольшого озера, густо заросшего камышом, среди которого поселились водяные крысы — ондатры… Вилена ходила в клуб, там устраивались танцы под гармошку. И, кажется, там, слушая гармошку, она поняла всю прелесть таких песен, как «Вот кто-то с горочки спустился», «Темная ночь», «Подмосковные вечера», «Огонек». Эти песни как-то особенно тревожили Вилену. И когда кто-то принес магнитофон, подключил его в сеть и запустил громкую и визгливую музыку, Вилена просто-напросто ушла из клуба. Магнитофонная музыка показалась настолько неестественной, как если бы в детский сквер пришли люди с бензопилой…
— Вилена, доченька, ты почему салат не ешь? Он очень вкусный. Попробуй, это Аглая Федоровна готовила.
— Дети сейчас — им не угодишь. — Аглая Федоровна высокомерно взглянула на Вилену. — Уж они-то себе ничего не смогут приготовить, за это я ручаюсь. Столовские щи для них будут высшим мерилом кулинарного искусства.
— Возможно, что к тому времени столовые будут иными, — заметил отец.
— Я очень сильно сомневаюсь. Феликс, вам еще положить салату?
— Да, конечно! Спасибо, очень вкусно, — скороговоркой отвечает Феликс: у него смешно шевелятся (ходят по голове, как определила Вилена) уши, когда он ест.
— Вилена, что за музыку ты поставила? — недовольно хмурится мама. — Мы же не на деревенских посиделках, право.
Слышатся приглушенные хлопки, и комната наполняется тревожным зеленым светом, в котором покачиваются и плывут предметы на кухне.
— Это Горелкины! — вскакивает мама.
— Конечно, — подтверждает Аглая Федоровна. — Они прекрасно умеют отдыхать, широко: с выстрелами, ракетами, лыжными вылазками… Ведь так, Феликс?
— О, да! Безусловно, — торопливо дожевывая, отвечает Феликс.
У всех этих скрытых (якобы скрытых) упреков и намеков один-единственный адресат: отец Вилены, который, конечно же, отдыхать не умеет, потому что любит и более всего ценит на даче тишину, покой, уединение. Шум, гам, сюрпризы ему надоедают в институте, но этого никто не хочет брать в расчет.
Распахивается дверь, и в комнату влетает вывалянный в снегу Миша Горелкин. Он сощуренно разглядывает собравшихся за столом, заразительно смеется, блестя в полусумраке зубами.