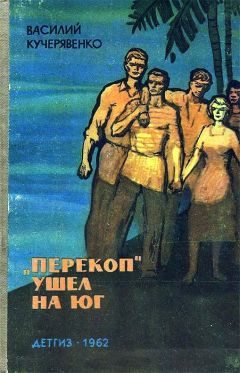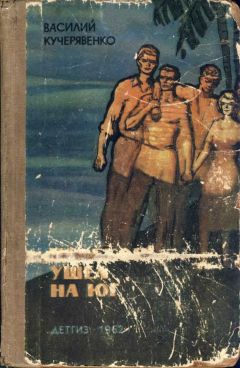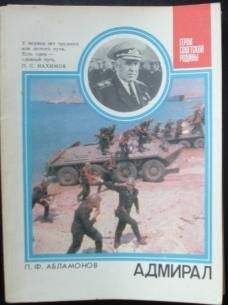Владимир Жуков - Хроника парохода «Гюго»
Полетаев усмехнулся — знал, что старик терпеть не мог женщин на судне. Еще буфетчицу, дневальную в столовой — ладно, но чтобы матросом — ни-ни, считал святотатством.
— Возьмите, Яков Александрович, — не унималась Вера.
— Это не ко мне, — сказал Полетаев. — К старпому обращайтесь.
— А кто у вас старпом? — спросила Вера.
— Реут. Знаете такого?
И тут Полетаев почувствовал, как тихо стало в комнате. Словно бы он нарушил некий существовавший в доме запрет.
Первой нашлась хозяйка:
— Кому еще чаю? Ну, кому еще?
— Ре-ут! — протянула Вера. — Ну тогда мне с вами не по пути.
— Не по пути? Почему же? — Полетаев вопросительно посмотрел на Веру, Зубовича, на Анастасию Егоровну. По их лицам что-либо понять было трудно, одно только стало ясно: старпом упомянут некстати, зря.
— Смешно, — сказала Вера. — Никуда от этого человека не денешься... Вас можно поздравить, Яков Александрович. Будет кому капитанскую должность сдавать.
— Сдавать? — переспросил Полетаев. — Обычно старпому и сдают.
— Смотрите, как бы раньше времени не пришлось, как бы сами не запросились...
— Ладно! — Зубович стукнул ладонью по столу, и посуда испуганно зазвенела. — Оставьте Вадьку в покое.
Вот, значит, как! Вадьку. Он, Полетаев, зовет старпома Вадимом Осиповичем, а Зубович Вадькой назвал, как сына или соседского мальчишку. Но у капитана детей нет, а Реут какой же мальчишка, ему уже за тридцать...
Вера вытянула из рукава платок, провела по глазам, словно вытирала слезы. Но слез не было — Полетаев хорошо разглядел.
— Пожалуй, верно, Иван Феоктистович, — сказала она. — Оставим. Я только знаете что? — Вера деланно рассмеялась. — Я подумала: что вы скажете, когда Реут и вашим начальником станет, пароходством командовать начнет?
— Скажу спасибо, если хорошо за дело возьмется. А вот ты что тогда скажешь? Что дурой была?
— Иван! — встревожилась Анастасия Егоровна.
— Что дурой была? — настойчиво повторил Зубович. — Сама долю выбрала.
Теперь Полетаев заметил в глазах Веры слезы. Но по тону, каким она говорила, не было видно, что Вера обижена словами старика.
— Я просто человека остеречь хочу. Вам-то чего, Иван Феоктистович, заступаться?
— Он, может, и ошибался, а вот ты сознательно действуешь. Знаешь, как такое поведение называется?
Полетаев чувствовал себя неловко: о личном говорят. И мало того что при нем сводят неясные родственные счеты, речь идет о его подчиненном. Да о каком еще подчиненном — о старшем помощнике. О человеке, которому он обязан доверять как самому себе там, на ста тридцати метрах металла, посреди океана. Надо бы все же выяснить, в чем тут дело, но Полетаев молчал. Он всегда отделял личное от того, во что могут и должны вмешиваться окружающие.
Промелькнуло в мыслях, что разговор идет с т р а н н ы й. Полетаев, больше года видевший над головой немецкие самолеты, привык, что люди страдают, веселятся, печалятся, радуются только в связи с одним — с войной, что она всему первопричина, всему источник. А тут, у владивостокских жителей, по-другому, вроде по-довоенному, особые, свои дела. Реут сделал что-то плохое Вере. И Зубович, судя по всему, считает, что плохое, но почему-то главный огонь направляет против нее, Веры. Почему? Потому что важнее старику перебороть что-то в ней, а не в Реуте?
И Вера, споря с Зубовичем, тоже в конце концов сводила все только к самой себе. Она не жаловалась, нет. Скорее настаивала на правильности какого-то своего поступка. И вот это-то и не нравилось, видимо, старому капитану.
Полетаев слушал малопонятный, состоящий из недомолвок разговор и чувствовал себя как-то неловко. Пожалуй, надо поскорее уйти. К счастью, часы на стене тугим ударом напомнили, что уже час ночи. Он извинился, задевая за стены узкой прихожей, натянул кожанку, попрощался с хозяевами.
Внезапно Вера тоже поднялась, коротко простилась и вышла вслед за ним.
На темной, как бы несуществующей лестнице Полетаев взял Веру под руку, нащупал ногой ступеньку. Вера шла рядом недолго, маршем ниже оказалась впереди, и пришлось удержать ее, чтобы она остановилась у слабо синеющей двери.
— Мне непонятны две вещи, — сказал Полетаев. — Почему рассердился на вас старик? И что такое у вас с Реутом? Я ведь ни одного слова не понял. О чем вы спорили?
— Все об одном и том же, — сказала Вера громко и вызывающе. — Реут здесь ни при чем. Просто старик считает, что у меня последнее время слишком большой выбор. — Она усмехнулась. — Слишком много мужчин вокруг одинокой женщины с незаконченным высшим образованием.
— Смотря какие мужчины...
— Что, в их компанию захотелось? Говорите, не бойтесь.
Полетаев не ответил. Верины слова, весь ее тон показались наигранными. Она ни сегодня, ни прежде не была похожа на женщину, которую родственникам следовало бы одергивать, предостерегать. Зачем она сама себя чернит?
Ему вдруг стало жаль Веру, смутно видимую в темноте, всю во власти каких-то неясных тревог, и захотелось сделать для нее что-нибудь доброе, простое и приятное, как сестре или дочери.
— Что же вы молчите? — спросила она. — Боитесь упасть в собственных глазах?
— Нет, — сказал Полетаев. — Не боюсь. Просто не хочу состоять ни в какой компании.
Она явно не ожидала такого ответа, молчала; он слышал только ее дыхание. Потом раздался раздраженный смех.
— Чего ж тогда не откланялись, когда я пришла? Небось сидели до меня, про жену свою рассказывали. Как она вас, бывало, из рейса ждала!..
Услышать такое было обидно, как-то совестно за Веру. Что за грубость, бестактность? Полетаев отпустил ее руку.
— Моя жена погибла на шестой день войны. Она была врачом. Их санитарный поезд немцы разбомбили под Мелитополем. А прежде работала на станции «Скорой помощи». Дежурства, срочные вызовы. Где уж там... Ждать из рейса.
Вера молча слушала. Потом сказала тихо, моляще:
— Простите меня.
Он снова взял ее под руку. Они долго шли в гору по размытым ливнями тротуарам — со вздувшимся асфальтом, с вывороченными камнями, мимо темных, уснувших домов. Наконец Вера остановилась и так же твердо, так же упрямо-нарочито, как в подъезде, сказала:
— И все-таки придется приспосабливаться к новой жизни. Моряку нужно кого-нибудь любить или...
— Я лучше «или», — поспешно ответил Полетаев.
— Да, конечно... Простите, бога ради. Я так... просто. Мне надо было поверить, что вам и вправду от меня ничего не нужно.
Она вдруг прижалась к его руке. Полетаев был растроган, смущен. Он осторожно обнял Веру за плечи, готовый вот-вот отстранить ее от себя. И в ту же секунду почувствовал присутствие чего-то чужого, враждебного. Долгий нахальный свист распорол тишину, в шорохе шагов раздались пьяные голоса.
— Вво, Сема, как ээто ппроисходит. Гговорил я ттебе — тты ее только пприголубь рразок, ппроводи домой, а оона тебе рребеночка и ввыложит. Иизволь — оотец!
— Понятное дело! — хрипло отозвался кто-то сбоку. — Им, бабам, что до любви, только бы в загс.
И снова свист.
Полетаев почувствовал, как Вера испуганно напряглась, и сильнее сомкнул руки, точно обороняя ее, прикрывая собой.
А те все не уходили: он знал, что они уже совсем рядом, сзади, наверно, всего в полуметре.
— Лладно, Сема, ппошли. Ппусть оошибаются.
— Нет! Мы объясним популярно про семью и брак. Общественный долг!
Полетаев сгреб сразу обоих, сшиб вместе, ощутил толчок в грудь и удар в подбородок, и такой сильный, что заныли зубы.
— Стой, Андрюха, стой! — Голос рядом хрипел на самых низких нотах. — Капитан это, Полетаев, я его знаю... Тикаем. Атанда-а!
И опять непонятное: топот, один вырвался из рук, другой странно обмяк, кто-то еще возник рядом, по глазам безжалостно резанул свет фонаря. От Полетаева оторвали того, обмякшего, и он, щурясь, отворачиваясь от бивших в глаза лучей, перевел дух.
— Что тут происходит? Документы!
Фонарь наконец отвели в сторону, по словам и так было понятно, что это патруль.
Полетаев тревожно выискивал среди темных фигур Веру. Ее нигде не было, и он шагнул в сторону, отстранил кого-то рукой, потом наконец увидел ее, одиноко стоявшую у стены, словно отброшенную за ненадобностью.
— Документы! — еще раз произнес строгий голос, и Полетаев послушно протянул под свет фонаря свою мореходную книжку. — А у того?
— Пьян в свайку, товарищ старлейт, — насмешливо отозвался военный моряк из патруля. — Сам уж и стоять не может. — Придерживая локтем винтовку, он шарил под бушлатом у задержанного. — Во! Нашел.
Офицер попросил посветить ему. Полетаев, стоявший рядом, увидел в руках старшего лейтенанта красную обложку орденского удостоверения, стертые на перегибах справки. Все, что случилось минуту назад, и вид человека, поддерживаемого патрульными, так не подходили к орденской книжке, что Полетаев почти вслух сказал: «Фантастика, бред!»