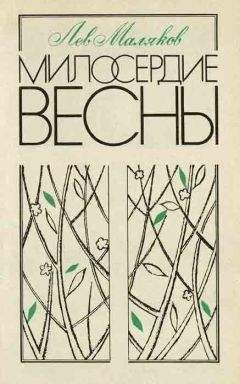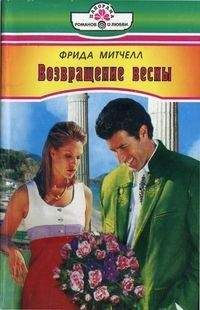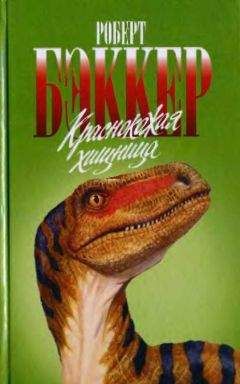Анатолий Чмыхало - Три весны
Алеша нарочито кашлянул, но ему никто не отозвался. Он хотел было присесть на зачехленный белым стул, но передумал.
— Можете одеваться, — донесся ровный мужской голос. И сию же секунду из-за ширмы появился высокого роста доктор в роговых очках и в белой шапочке. Он прошел мимо Алеши к столику, что был в углу комнаты, присел и что-то долго писал, беззвучно шевеля сухими, бесцветными губами. Затем отложил в сторону мелко исписанный клочок бумаги и вопросительно покосился на Алешу:
— По какому случаю? Вас кто-нибудь побил? Нужна экспертиза?
— Н-нет. У меня метрика…
— Снимайте брюки, — приказал доктор, направляясь к Алеше и на ходу поправляя очки.
— Зачем? — растерялся тот. — Это же… стыдно.
— Вы куда пришли? И что вам нужно? — сурово спросил доктор.
— Я насчет метрики…
— Мне некогда. И вы у меня не один. Там очередь, — доктор кивнул на дверь.
— Чего возишься! Снимай быстрее, — сказала выросшая рядом женщина в халате и в такой же шапочке, как у доктора.
Алеша густо покраснел и отвернулся.
— Так сколько же тебе лет? Когда родился?
Алеша прикинул: нужно сказать, чтобы было никак не меньше семнадцати. Но поверят ли?
— Родился я пятнадцатого декабря двадцать третьего года.
— Покажите зубы, — сказал доктор в роговых очках.
Алеша ощерился. Конечно, зубы показать можно. Пусть смотрят сколько угодно.
— Я думаю, что можно согласиться, — сказал доктор. — Значит, пятнадцатого декабря?
Он записал что-то в книгу, потом спросил фамилию и имя. Наконец протянул бумажку:
— Комната напротив.
Алеша с облегчением вздохнул и вышел в коридор. А затем они вместе с Васькой смотрели, как знакомая девушка выписывала справку. Затем она ходила куда-то, очевидно, к доктору в очках, подписывать документ.
— Девочка сто сот стоит! — бросил ей вслед Васька.
— А кто она? Ты ее откуда знаешь?
— Не твое дело.
Некоторые уже побывали на комиссии. Хоть медицинских карточек никому не вручили, ребята примерно знали, кто на чем срезался. Но забракованные все еще на что-то надеялись. Ждали чуда. Авось будет недокомплект, и тогда кое-кого могут взять. И, перебивая друг друга, честили Саньку Дугина:
— Пижон! Глухим притворился.
— Зачем тогда идти на комиссию?
— Фрайер!
— Да я передумал служить, — оправдывался Санька. — Я по натуре своей — штатский. Ну куда мне в армию!
Ванек еще не был на комиссии и переживал. Это было видно по его тонким, бескровным губам, по суетливо бегавшим испуганным глазам.
Алеша и Васька в регистратуре поликлиники записались у военкоматовского лейтенанта с малиновыми петлицами. Он развернул новенькую Алешину метрику, с интересом заглянул в нее.
— Сегодня оформил? Оперативно, — с профессиональной проницательностью отметил он. Знаем, мол, ваших.
Парни больше всего срезались на «чертовом колесе». Это было нехитрое устройство. Человека сажали в свободно вертящееся металлическое кресло, кресло раскручивали, а потом заставляли беднягу встать и пройти по одной плашке. Это редко кому удавалось. Проклятая плашка рыбкой выскальзывала из-под ног. Выходили после «чертова колеса» зеленые, с дикими глазами и хриплым, замогильным голосом сообщали:
— Повело. Амба!
Им от души сочувствовали, но что значило сочувствие тех, кто через несколько минут должен был разделить с ними постылую долю неудачников! «Чертово колесо» все крутилось и крутилось. И никто из ребят не мог миновать его.
Увидев молчаливо ставшего в очередь Алешу, знакомые парни искренне удивились. Они знали, что он на год моложе их, а за возрастом здесь следили строго. И кто-то даже невесело сострил по поводу Алешиного малолетства. И Алеша смолчал, словно это его никоим образом не касалось.
На «чертовом колесе» пролетел и Костя. Он вышел из кабинета шальной, с испариной на белом лбу. Тыкался из угла в угол, а когда его спросили, безнадежно повесил голову.
Наконец вызвали Алешу. Врачи придирчиво щупали его, очевидно, искали какую-то болезнь, а когда не нашли, то били молоточком пониже коленного сустава, и нога у Алеши забавно прыгала. А еще его заставляли со всей силы дуть в какую-то трубку. Он дул, и тяжелый металлический поршень в стеклянном цилиндре поднимался все выше, пока в легких у Алеши был воздух. Когда же Алеша совсем выдохся, почувствовав себя пустым бурдюком, врачи посмотрели на цилиндр и сказали:
— Норма.
А кресло стояло у окна, то самое. Его сразу угадал Алеша. «Так вот где таится погибель моя», — стихами тревожно подумал он и уж больше старался не глядеть в ту сторону.
— Теперь пройдите сюда.
Он не стал уточнять, куда его посылают. Он прошел и сел на «чертово колесо», и оно обожгло его холодом, и холод поднялся выше, и Алеша зябко передернул плечами.
Кресло плавно, как по маслу, тронулось с места, сделало один оборот, другой и пошло, покатило быстрее, еще быстрее. В глазах у Алеши враз зарябило, и он невольно закрыл их. И почувствовал, что ввинчивается в пространство, словно летящая стрела. Затем его прижало хребтом к спинке кресла, расплющило, и к горлу подступила противная тошнота.
— Стоп, — сказал кто-то.
Алеша встал и, собрав воедино всю свою волю, направился к двери. И после первого же шага к нему пришло ощущение полного провала. Ему показалось, что его резко бросило сначала в одну, затем в другую сторону. Но позади раздалось:
— Норма.
Алеше стало легко. И не так уж оно страшно, это кресло! Конечно, с непривычки немножко мутит, но терпеть все-таки можно. Алеша вытерпел, и теперь он непременно попадет в военное училище. И скоро будет летать выше облаков, и люди гордо станут называть его летчиком. Сталинским соколом! Это же черт его знает как здорово!
6Алеша проснулся внезапно, как от толчка, и увидел большой золотой сноп света в избушке. А еще увидел в оконце голубой кусок неба, такой голубой, что даже не верилось, что это все настоящее. Необычными казались и сбрасывающие снежный покров близкие горы, и строй тополей, шагавших по обочинам Копальского тракта, и гулкий гудок паровоза у семафора.
Было воскресенье. У приоткрытой двери, ссутулясь, кряхтел отец, починяя сапоги. Приятно, как в деревне, пахло кожей и дегтем. Отец загрубевшими пальцами ловко делал привычную ему работу. Прокалывал кожу шилом, откладывал шило в сторону и протягивал в дырочку иглу с дратвой, да время от времени любовался тем, что сделал: отставлял сапог на другой стул и разглядывал со всех сторон.
А бабка Ксения варила завтрак. Над печуркой витал синий пар. Алеша ноздрями жадно потянул воздух: кипел борщ. А в армии, верно, не готовят таких вкусных борщей, как у бабки Ксении.
— Вставай, Леша. Пора, — поднимая грустные глаза, сказал отец.
Его поддержала властная, ворчливая бабка:
— Любишь мокрым полотенцем утираться.
Почему мокрым? А кто же вытирается сухим? Тот, кто встает раньше. Бабка Ксения мудра, она за словом в карман не лезет. Бабку никогда не переспоришь.
Алеша вскочил с топчана, проворно натянул на себя штаны. Бабка зачерпнула ковшом воду в кадке и подала ковш. Вода была холодная и обжигала лицо. Умываясь, Алеша фыркал и покрякивал совсем так, как это делал отец.
Еще вчера в Алешином сердце была одна неизбывная радость. Сбывалось его желание: Алешу брали в летное училище, на днях он должен был ехать в Ташкент. Наступала пора зрелости, полной самостоятельности, и это радостно волновало и немножко страшило его.
А сейчас ему стало жаль и отца, и бабку, и Тамару. Теперь отец будет красить один, и некому сбегать за махоркой для него, когда она вдруг кончится.
Но самое главное — не с кем будет отцу переброситься словом. Отец всегда беседовал с Алешей, как равный с равным. Это было заведено еще с той поры Алешиного детства, когда отец читал ему Есенина. Знал он стихов немного, но читал их выразительно, с чувством, как будто выносил в сердце и написал их сам.
Из-за Есенина Алеша имел неприятности в школе. Еще в четвертом классе, когда учитель рассказывал о Пушкине, Алеша наивно спросил, кто лучше — Пушкин или Есенин? А учитель в те годы носил синюю блузу и читал со сцены Народного дома Демьяна Бедного. Других поэтов категорически не признавал.
— Откуда ты знаешь, Колобов, о Есенине? Это ж кулацкий поэт.
Алеша понял, что сказал не то.
— Так откуда ты знаешь о нем?
— Я слышал… И стихи мне нравятся.
— Вот ты до чего докатился!
На школьной линейке Алеше был объявлен выговор. А в селе шли разговоры, что очень уж легко отделался, что пусть спасибо говорит школьному директору, который за него заступился, а то быть бы за порогом школы.
Тогда отец ничего не сказал сыну, не похвалил и не поругал учителя. И лишь как-то позже заметил мимоходом:
— Конечно, Демьян тоже неплохой поэт.