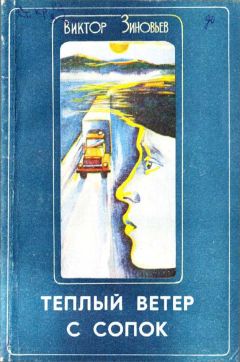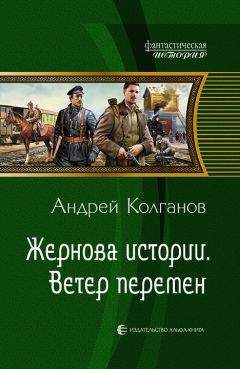Е. Рожков - Мужчины, рожденные в январе
Как обыденно все вокруг и просто! И от этой простоты и обыденности мира у Мятникова защемило сердце: он и его жизнь — всего лишь краткий миг в розовом утре вечности.
Мятников повернулся и посмотрел на поселок, на розовевшие домики. Он нашел глазами дом Зои и улыбнулся, чувствуя горячую нежность к девушке.
У балка Мятников неожиданно для себя увидел сидящего на скамейке бригадира Семена.
— Ты че? — спросил Колька. — Бессонница напала?
Он присел рядом с бригадиром.
— Душно в балке, вышел вот покурить. Сижу и думаю о нашей работе. Уедем мы, а дело-то наше останется. — Семен затягивается, потом с усилием, пыхтя, выдыхает дым. — Что бы там ни было, кто бы в этом колхозе ни работал, а ледник все равно будет, ледник все равно от нас пошел.
Мятников внимательно смотрит на бригадира.
— Ты, Семен Иванович, прочный мужик.
— Прямо душу коробит вот эта тишина, — с надрывом говорит бригадир.
Метрах в пятидесяти от балка, возле приземистого белого здания детского садика, по куче желтого песка степенно расхаживает ворон. Он озабоченно крутит продолговатой головой, По-хозяйски надменно и деловито каркает, бьет клювом песок, оставляя неглубокие дырочки; в розовом воздухе холодная чернота его оперения слегка отдает нежной сиреневостью. Что тревожит птицу и что она ищет в это чистое утро?
— Ишь, дуромол какой, — смеется бригадир.
— На нашего Иванпетю похож.
— Он мне вчера говорил, что готов просить отпуск и поехать снова строить где-нибудь ледник.
— Заработок понравился?
— Да не только…
Немного помолчали, прислушиваясь к непривычному в утренней тишине крику ворона.
— Веры во мне нет, а без веры страшно жить, — неожиданно с тревогой говорит Семен. — Я тебя хочу спросить, ты только не разбалтывай…
— Да не, могила…
— Как думаешь, пойдет за меня какая-нибудь? Не стар я по ихним понятиям? Ты ж спец в этом деле…
— Пойдет, — уверенно рубит Колька. — Тебе нужна мягкосердечная женщина. Ты-то мужик еще ничего — физиономистый.
Мятников улыбается, неожиданно вспомнив о Зое.
— Я как будто душу в чистом ручье вымыл, — неожиданно говорит Колька.
Солнце оторвалось от земли, солнцу предстоит долгий путь по небу.
«Чего я намолол! — с горечью думает Семен. — Никого мне ни теперь, ни потом не нужно. Если лебеди…»
Как чист и свеж воздух! Вот такими ранними утрами выходил он, Семен, из дома, шел коротким путем через рощицу, где пахло грибами, сырой травой и прелой листвой, шел мимо запруды, над которой истомленно синело облачко, шел к кузнице, возле которой усатый кузнец Никитыч сидел на пеньке и курил, поджидая Семена.
— Начнем люд поднимать? — говорит кузнец.
— Начнем, — отвечает Семен.
Никитыч старательно затаптывает окурок, проходит в кузницу, раздувает горн, достает щипцами из угля светящийся кусок железа; бросает его на наковальню, возле которой стоит Семен с тяжелым молотом в руках.
Вечером он идет к запруде и издали в сизости сумерек у кустов орешника видит хрупкий девичий силуэт.
— Устал? — шепчет она, и большие влажные глаза ее ласково блестят.
— Нет, совсем нет, — отвечает он, действительно не чувствуя недавней тяжести в мышцах.
Семен находит ее губы и не может оторваться от них, не может оторваться от ее пропитанного дневным зноем тела, пахнущего полем, где она работает. Тело ее на удивление хрупкое, вовсе не деревенское, и этим еще более дорогое ему.
В каждом утре витает ее светлая улыбка, чистое дыхание и ласковый шепот:
— Ты устал?
Утекло время, и утечет вот это утро, но не бесследно утекла его молодость, как не бесследным будет и это утро.
Мятников встает и, весело подмигнув, говорит:
— Пойдем, хоть часок покимарим. Север, как больных собак трава, вылечивает людей.
Солнце все выше — и выше, солнцу предстоит долгий, бесконечный путь над землей.
Эти светлые дни
К источнику шли медленно, походкой праздных, беспечных людей. Лобов открыл тугую дверь бассейна и пропустил вперед Ирину. Впрочем, бассейн — слишком громко сказано, это был квадратный сарай из потемневших от паров источника досок на тарелочке голубого озерка.
— Как здесь ужасно жарко! — притворно капризно воскликнула девушка. — Это прямо ад в раю.
Лобов торопливо, с незабытой армейской проворностью, разделся, прошел по настилу из предбанника к воде и окунулся по грудь. Его будто бросили в огонь, тело, подобно губке, стало набухать, наполняться сырым, зудящим жаром, этот жар ударил в голову, и на лбу выступила испарина, холодящая лоб, как компресс, а в висках застучало. Лобов почувствовал свое сердце, и стук его, как стук метронома, был поразительно чист и гулок.
Ирина задержалась в дверном проеме и с тихой, по-детски светящейся сопричастностью улыбкой смотрела на Лобова.
Нельзя шевелиться, иначе тело вновь охватит зудящее пламя и сердце, как торопливый путник, застучит в висках. Он говорил девушке глазами, что ему хорошо, и приглашал ее. Лобов полулежит в воде, упираясь пальцами ног в зыбкий, горячий, с белыми камнями известняка песок; тело кажется каким-то маленьким, необычно белым, вроде бы заспиртованным.
— А я боюсь, — выдыхает стыдливо она.
Он не может понять, чего она боится: его или жары. Он поднимается на настил, садится так, чтобы задуваемая ветром прохлада доставала лицо.
— Ладно, — = говорит Ирина. — Только я совсем чуть-чуть окунусь.
Она сбрасывает на скамью халат, проходит по настилу к самому мелкому месту в источнике, теперь уже сбоку от Лобова, нагибается и плавными, поглаживающими движениями руки начинает разгонять сине-зеленую, ослизлую пену водорослей.
Он помогает ей, и руки их иногда встречаются. В голубизне воды белые ладони похожи на двух резвящихся рыбок.
Она опускается в воду, как бы обрекая себя на адские муки, с перехваченным от огненной воды дыханием, зажмурив крепко-накрепко глаза. Лицо ее тут же покрывается розовыми, нездоровыми пятнами. Не прошло и трех минут, как она уже поднялась на настил, и, слегка пошатываясь, будто шла по палубе, поддерживаемая Лобовым, направилась в предбанник.
Он не на шутку испугался за Ирину, он же знал, что в источнике не всем можно купаться, что вода сильно действует на сердце. Он подал ей полосатое влажное от пара полотенце, открыл наружную дверь, и вместе с лучами солнца прохлада ворвалась в предбанник. К густому запаху водорослей, напоминающему запах печеных яблок, добавился горчичный запах папоротника, который рос по берегам источника еще с тех далеких времен, когда по высокотравным долинам ходили неуклюжие и смирные, так и не сумевшие защитить себя от земных невзгод мамонты.
— Вот и прошло все, — говорит Ирина, чтобы успокоить Лобова.
Она уронила лицо на полотенце в согнутых руках, плавным движением головы откинула упавшие вперед волосы, которые блеснули теплой каштановостью в простреле солнечного света из двери, полотенцем прикрыла грудь, концы его, как кашне, забросив за спину. Потом она поднялась, не снимая полотенца с груди, запахнула халат, прилипший к влажному купальнику, повторяя округлость линий молодого легкого тела.
Лобов надел синий спортивный костюм, не скрывавший заметно округлившегося живота и жировых складок на боках, которые словно размывали былую спортивность фигуры.
Они вышли на улицу, и яркое солнце в прохладе июльского северного дня показалось им подарком из далекого детства.
Сопки, подступившие со всех сторон к пяти домикам Горячих Ключей, с черными редкими валунами-бородавками на склонах, увитые у основания гирляндой редких кустиков, с небольшими ледниками, слезящимися светлыми ручейками все короткое лето, стеной прикрывали лощину от набега северных ветров. Здесь, на дне каменного мешка, всегда было тихо, и только где-то в вышине, над сизыми вершинами сопок, гоготал ветер.
Лобов и Ирина идут медленно, как бы повинуясь ленивому течению жизни в Горячих Ключах, обусловленному самой целью приезда, потребностью души отдыхающего человека, наконец-то убежавшего от обыденности.
— Мне вчера приснился всадник на корове, у которой были ветвистые, как у оленя, рога.
— А дальше что было? — спросил Лобов.
— А дальше ничего, просто проскакал мимо — и все. Было страшно, я проснулась и долго не могла заснуть.
Лобов обернулся. Ирина, на полшага отставшая от него, остановилась, и в глазах ее промелькнуло ожидание, всегда волнующее даже тех, кому уже довелось испытать разочарование в финале мелодрамы, начавшейся с украденного или подаренного поцелуя.
Он удивлялся, как быстро теперь взрослеют девушки. Приобретая к девятнадцати годам рассудочность тридцатилетних, они в душе остаются детьми и потому, как перегруженные на один бок корабли, рискуют потерпеть крушение даже в незначительный шторм.