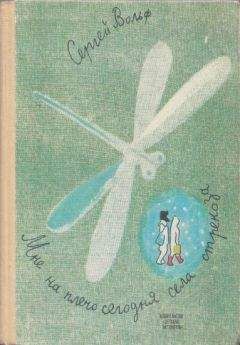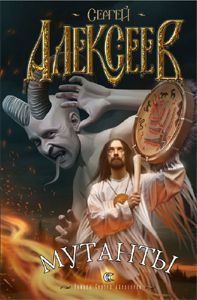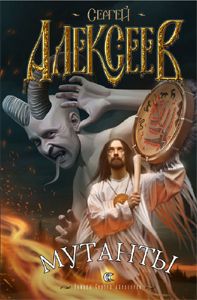Сергей Лисицкий - Этажи села Починки
— Давай обедать! веселиться будем!..
— Лучше без торжества.
— Пообедаем и — гулять. Я тебе покажу наши места и перспективу наших весей. И поговорим вдоволь.
За обедом я рассказывал хозяину, чем занят, о новой своей работе. Вспоминали прошлые годы, иные дни, друзей-товарищей…
Николай смешно щурился, часто наливал сухое вино, от которого он заметно хмелел.
— Знаешь, — горячился брат, — я вот прихожу к выводу, что мы много теряем талантов на местах, в таких вот глубинках, как наша.
— Что ты имеешь в виду?
— А то, что для вузов надо подбирать ребят, начиная с первых классов. Сколько в селах, вот таких, как наше, талантливых ребят!..
— Ну, а в городах?
— И в городах много, — согласился он, — только там больше шансов не затеряться, пробиться к тому, чего хочешь.
— И как же ты представляешь себе практически осуществление этой благородной цели?
Брат поднялся со стула, размял в пальцах сигарету, задумался.
— Дело это, конечно, не из простых. Но ты представляешь, сколько бы новоявленных Ломоносовых мы приобрели.
Серые глаза его возбужденно горели, белесая бровь чуть заметно вздрагивала. Он еще раз прошелся вдоль комнаты и сел.
— Положим, я — русак. Рисование преподаю. Но это, так сказать, полупрофессионально. И вот я здесь заметил ученика с незаурядными способностями. Повторяю — с незаурядными. Слежу за ним несколько лет, воспитываю, наставляю.
Он пододвинул стул поближе к столу, взял стакан, отпил два небольших глотка.
— Так вот, перед выпуском его из школы я пишу заявку в соответствующую инстанцию или там заявление. Ученика могут вызвать или проверить на месте. Будет это что-то вроде конкурса. Я убежден, что в будущем приемные экзамены отомрут.
— Ну, это ты хватил через край, — усомнился я. — Кто же будет успевать всех этих ребят испытывать? Ты рекомендуешь своих несколько человек, другие — своих… А по району сколько, а по области…
— Любое дело, даже самое доброе, можно легко загубить на корню. Я ведь имею в виду особые случаи. Лучшие из лучших, вернее, чем-то выдающихся. Повторяю, дело это нелегкое, но сколько бы мы от этого выиграли. И сколько таких у нас ребят? Да вот, например, — он поднялся со стула, достал объемистый планшет, поставил передо мною несколько карандашных и акварельных набросков, этюдов. — Вот полюбопытствуй. Это восьмиклассник Саша Журавлев, его работы. Представь себе пятнадцатилетнего паренька с глазами взрослого человека. И задумчивого.
Я рассматривал рисунки ученика. И действительно, в них было то трудноуловимое, что можно лишь понимать, чувствовать, но пересказать почти невозможно. Отношения, пропорции, перспектива — как и в рисунках, так и тонах — безукоризненны. Но разве это самое главное, вернее, разве это единственное, что определяет степень одаренности? Все это элементарные условия мало-мальски грамотного рисунка.
Нет. Было еще в этих рисунках и нечто такое, что угадывалось мною в самом, казалось, подходе к изображаемым предметам. А может быть, это действительно только так казалось потому, что брат сумел меня именно на это настроить?..
— Своеобразно…
Николаю явно не понравилось мое определение, он посмотрел на меня с грустной улыбкой.
— Знаешь, — сказал он, — у нас есть еще один выдающийся — тот ботаник.
— Ты обещал ведь с хутором познакомить, — напомнил я.
— Ах да, пошли, там и поговорим.
— Елена Павловна, спасибо за обед. Не убирайте, мы скоро вернемся.
В дверях показалась хозяйка дома, полная, лет пятидесяти пяти женщина, с широким округлым лицом и высокими темными бровями.
— Здравствуйте, — слегка поклонилась она.
Я поздоровался.
— Откуда к нам гость-то пожаловал?
— Из Воронежа, брат мой. Похож?
— Похож, такой же беленький.
— Сейчас поведу его на солнце, пусть загорает… Идем. — Он широко открыл дверь, и мы вышли во двор.
Окрестности и сам хутор произвели на меня хорошее впечатление. Свежие домики, белеющие в густых вишневых садах, были рассыпаны в низине степного взгорья. С двух сторон хутор огибали два пруда…
Брат неторопливо рассказывал мне об ученике, который выказывал, по его мнению, недюжинные способности в естествознании. Выращивал зимой цветы, лимоны и огурцы. Я же почти не слушал его и думал о старике.
Потом мы сидели над крутым спуском, у огромного тополя. Внизу, у подножья тополя, зеленела вода, ближе к левому краю она из зеленой превращалась в багряную от вечерней зари. Было тихо, лишь со стороны хутора доносилось глухое завывание трактора, слышались тупые удары парового молота-бабы.
— Мост строят, — пояснил брат, видя, что я прислушиваюсь к доносившимся звукам.
— Есть река?
— Тихо, — сказал он. — Слышишь?..
Кроме гула трактора и уханья молота-бабы, я ничего не слышал.
— С поля возвращаются…
Николай смотрел в противоположную сторону хутора. Да, теперь я явственно различал песню. Пели два женских голоса…
Л-е-е-тят у-у-тки…
Л-е-е-тят у-у-тки…
— Любимая, здешняя… — сказал брат. — Здесь песенные места. Старшее поколение — поет старинные песни, молодежь — современные. И вот что удивительно, — все более возбуждался брат, — современные песни здесь поются на свой, особый лад. Вечером сам услышишь.
Между тем песня, светлая в своей грусти, подходила к концу. Несколько минут было тихо. Потом тот же высокий голос запел:
Соловьем залетным
Юность пролетела…
Другой, низкий грудной подхватил:
Волной в непогоду-у-у…
Долго сидели мы молча, слушали. Мне казалось, что сейчас наступил самый подходящий момент для разговора о загадочной могиле, но я все-таки начал его издалека:
— Кто у вас такая Виктория Вениаминовна?
Николай с недоумением посмотрел на меня, даже отодвинулся в сторону:
— Откуда ты ее знаешь?
Пришлось рассказать, как я встретил Евдокима Лукича, и что он мне поведал два часа тому назад.
— Ох и старикан! — покачал головой брат. — Говорун. Мы с ним недавно схлестнулись.
— Чего не поделили-то?
— Понимаешь ли, я верю в то, что он утверждает. Слишком многое логично в этой истории. Проверял кое-что. Но самое главное, у него был один важный документ, да затерялся. Вот я и подтруниваю, чтоб нашел он его. А Виктория Вениаминовна — историк наш. Краеведением ведает, она сомневается, но полностью версию не отрицает.
— Да-а… Любопытнейшая история.
— Тут много интересных людей. Кое с кем я тебя обязательно познакомлю.
— Лучше бы сначала посвятил в эту историю, — попросил я.
— Идем, дома расскажу.
Мы поднялись и неторопливо пошли вдоль пруда. Заря чуть теплилась в свинцовых тучах. Стояла тишина. Умолк гул трактора, затих молот. Лишь когда-то да-далеко-далеко, в противоположном конце хутора доносился голос радиолы:
Не спорьте, друзья,
А мы и не спорим…
Было совсем темно, когда мы вошли в комнату. Зажгли свет. Николай поставил чайник, и пока он закипал, он поведал мне эту давнюю, трагическую и вместе с тем светлую, как падающая звезда — историю.
* * *Поздней осенью к хутору (здесь еще не было хутора, а были выселки, принадлежавшие войсковому атаману Глотову), подъехала запыленная кибитка, запряженная четверкой лошадей. Прибывший из Воронежа гуртовщик купца Василия Кольцова привез на выселки несколько кулей соли, выделанные бараньи кожи, сало, пшено, табак… Привез он с собой крестьянскую девушку лет семнадцати — восемнадцати, в цветном сарафане, с большой русой косой и печальными карими глазами. Красавица!
Весь провиант он сдал в хозяйский амбар, а девушку препроводил к старой деве Матрене, сестре жены Глотова, в качестве горничной, как и было условлено.
Вскоре приехавший Глотов увидел девушку и стал домогаться ее расположения, но встретил решительное сопротивление. В ярости приказал он запереть ее в амбар и вообще наказал свояченице «держать в деле».
Старая дева старалась изо всей мочи. Истязала свою жертву в непосильной, зачастую бессмысленной работе. Ее подогревала с одной стороны ревность за сестру, с другой — «непокорность» гордячки. И Матрена делала все, чтобы девушка не знала ни минуты покоя, ни уединения.
А в это время несколько верховых разыскивали невольницу, но розыски их оставались безрезультатными. Один из близких друзей Алексея Кольцова был буквально в восьми верстах от выселок, в соседней станице. Расспрашивал о девушке, но никто и не подозревал, что она рядом.
Спустя два года местный врач, приехавший по вызову на выселки, узнал, что девушка, которую искал воронежский прасол, и есть та самая пациентка, неизлечимо больная чахоткой. Он предложил ей написать за нее письмо к Кольцову, но Дуняша не согласилась. Тогда он от себя написал несколько строк, не забыв подчеркнуть, что пишет против ее воли, прямо тут же у казака Кондратия Долинина, впоследствии — деда Евдокима Лукича, в курене которого теперь содержалась несчастная девушка.