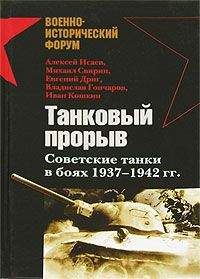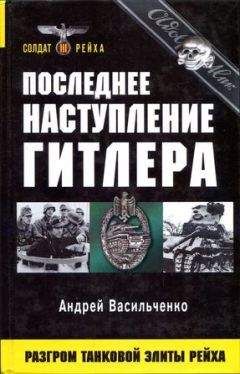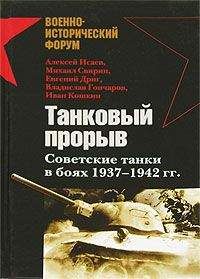Илья Дворкин - Взрыв
— Спасибо, — сказал он.
— Хотите еще?
— Девушка, умираю! Во рту — Сахара, — жирный голос издалека.
— Так хотите еще? Боржоми очень холодный.
Никита внимательно оглядел стюардессу. Вблизи стали заметны гусиные лапки морщинок у глаз. Но все еще подтянута, как пружина на боевом взводе. И цок-цок — перебирает ногами, как застоявшаяся лошадка.
— Там человек погибает от жажды. Как в пустыне Сахара, — сказал Никита.
— Этот и в Сахаре не погибнет. — Она улыбнулась. Скупо. Экономно. Улыбка прибавляет морщин. Старость подкрадывается незаметно.
— Спасибо. Я лучше подремлю.
Короткий, с достоинством, кивок. Цок-цок по проходу, покачивая безукоризненными бедрами.
Самолет заложил крутой вираж, сильно громыхнуло, затрясло, как телегу на булыге. Где-то близко мрачно двигался грозовой фронт со своими оперно-сатанинскими эффектами.
И еще один день.
Пришел караван из-за кордона, колонна из девяти машин. Автомобили — наши ЗИЛы, но так диковинно разрисованы, будто шоферы изощрялись в выдумке и озорстве.
Единственно общее для всех — марка фирмы.
Начальником колонны, именуемым по старинке караван-баши, был в этот раз на редкость противный тип со странной фамилией Яя.
Угодливый, вертлявый, с удивительно лживыми глазами и помятым лицом человечек.
А главное — голос! Будто пропитанный смесью подлости и патоки.
Никите казалось, что, даже не видя Яя, услышав только один его голос, люди должны бежать от него подальше.
Жилистый, маленький, почти лысый, но надо было видеть, как боялись его шоферы и грузчики!
Здоровенные рабочие парни, простодушные и веселые, они сразу съеживались, сникали под его взглядом, переставали балагурить и смеяться.
Как-то один из грузчиков — друзья его называли пехлеван, богатырь, — что-то возразил Яя, тот полоснул его таким взглядом, что у Никиты мурашки по коже побежали. А грузчик тут же умолк, только сплюнул и что-то пробормотал.
Авез Бабакулиев рассмеялся. Яя тоже угодливо хихикнул, но потом подошел к пехлевану, что-то процедил сквозь зубы, и этот огромный, сильный человек стал оправдываться, прикладывая руку к сердцу.
— Что он сказал? — спросил тогда Никита.
— Пехлеван?
— Да.
— Он сказал: гюрза в розовом сиропе.
— Здорово! — Никита искренне расхохотался. — А Яя что?
— Не слышал. Но реакцию грузчика ты видел.
— Да-а. Эх, если бы не дипломатия, с каким бы удовольствием навалял бы я ему по шее за один только его голосишко. Не понимаю, как только ребята его терпят?
— Боятся. Мне говорили, что он с каждой их получки мзду берет.
— И дают? — изумился Никита.
— Дают. За ним стоит кое-кто. Не этого же плюгаша боятся!
— Мафия?
— Очевидно, что-то вроде этого. А этот Яя странный тип. Говорит почти на всех языках Востока. Французский знает, греческий. Только боюсь, французы и греки его не поймут.
— Почему?
— Сленг. Жаргон воров, сутенеров и проституток.
— Гнать его надо к чертям собачьим, — возмутился Никита.
— А за что? Пока никаких претензий нет. Напротив, его колонна одна из лучших.
— Все равно глаз да глаз за ним нужен.
— Вот это правильно. Вася это понимает не хуже тебя. Видишь, у каждой машины пограничник. Да и что он может сделать? В город ему хода нет, на КПП все свои, грузы проверяются.
— Поди проверь их все, — проворчал Никита.
— Ни разу при выборочной проверке ничего не было, а проверять каждый ящик урюка...
— Ладно, Авез, ты мне только не читай лекций, — Никита улыбнулся, — я же знаю, что хозяева ему голову открутят, если мы партию груза завернем обратно.
В тот день опять явился Яя.
Все было как обычно: оформление грузов — бумажки, бумажки, выборочные проверки картонных, красиво оформленных ящиков, взвешивание, проверка упаковки и т. д. и т. д. Все как всегда.
Странным было только одно: Яя рьяно помогал грузчикам, трудился в поте лица, как заправский пролетарий. В предыдущие же свои приезды он стоял руки в брюки, покрикивал, командовал, а сам палец о палец не ударил.
Никита некоторое время наблюдал за этим неожиданным взрывом трудового энтузиазма, потом подозвал Ваню Федотова.
— У нас тут новый ударник объявился, — тихо сказал он.
— Вижу. Может, совесть заговорила?
— Как же! У него на месте совести щетина. Ты приглядывай за ним.
— Есть! — Иван улыбнулся. — Товарищ капитан тоже приказал глаз не спускать.
— Правильно сделал.
Никита и сам все время старался держать в поле зрения этого крайне неприятного ему человека. Ничего подозрительного не происходило. Ваня выполнял свои обязанности подчеркнуто открыто — он просто ходил за Яя по пятам. Но тот работал всерьез, подгонял грузчиков, весело скалил свои желтые, прокуренные зубы, подмигивал Ивану.
Иван был невозмутим, строг и непроницаем.
«А помогает работать грузчикам, очевидно, потому, что хозяева хвост накрутили, — подумал Никита, — нечего, мол, бездельничать, невелика персона».
Да, все стало на свои места...
Груз сдали, груз приняли, и колонна ушла к себе, за кордон. А с ней и неприятный тип, караван-баши Яя, и, какой бы темной личностью он ни был (предположительно), к работе его никаких претензий не имелось.
«С глаз долой — из головы вон (не из сердца же — чур-чур меня! Держать там такого хоть мгновение!..)», — подумал Никита.
Дотемна провозились они с Бабакулиевым в своей «конторе» — обшарпанной, насквозь прокуренной комнате с двумя письменными столами и допотопным, огромным, как танк, сейфом. Капитан шутил, что если прорезать в нем амбразуры, получится непобедимый дот.
Комнату украшали только яркие календари «Совэкспорта» за разные годы, развешанные по стенам.
Когда Никита пришел домой, он застал идиллическую картину. За столом, заваленным красками, карандашами, фламастерами, бумагой и еще десятками необходимых художнику вещей, работала Таня.
Еще в Ленинграде она получила заказ на цветные иллюстрации к детской книжке. Это было огромной удачей для начинающего художника-графика, первой по-настоящему творческой работой.
Тане до смерти надоело рисовать плакаты по технике безопасности, рыб, моллюсков, осьминогов и прочих каракатиц для какой-то толстенной научной книги, где превыше всего ценились точность и подробность изображения.
Ползучий натурализм, как говорила Таня. А тут цветная книжка, да еще сказка! Таня была счастлива. И теперь целыми днями работала, мучаясь, делая десятки эскизов, сомневаясь, порою чуть не плача.
Никогда не предполагал Никита, что рисовать цветные картинки для детской книжки такой тяжкий труд.
Но надо было видеть, как радовалась Таня, когда работа ей удавалась!
И тогда Таня закатывала «званый ужин» — готовила какие-то неведомые, замысловатые, но необычайно вкусные блюда, чистила все в доме, драила и делала это в охотку — весело, без натуги.
Приходил Бабакулиев с очередным своим сердоликом, Вася Чубатый приносил гитару. Гриша Приходько тихонько, боясь что-нибудь задеть, расколоть ненароком, пристраивался в уголке, и начинался один из тех вечеров, после которых трое холостяков несколько дней ходили задумчивые, и думы их нетрудно было угадать. Таня была королевой на этих вечерах, а Никита таким же подданным, как и остальные, — ни больше ни меньше. Так уж повелось, такова была традиция (а возникла она и укрепилась очень быстро).
Тепло было на этих вечерах, и забывалась тяжелая служба и то, что рядом граница, а вокруг голые мрачноватые горы.
И казалось, будто Ленинград, любимый до того, что сердце щемило, переносил малую частицу свою сюда, в домик, прилепившийся на угловатой спине Копет-Дага.
И все было удивительно чисто и молодо.
Бабакулиев придумал игру: он читал любимого своего Омара Хайяма на фарси, и надо было отгадать, о чем идет речь. Поразительно, но, не зная языка, в большинстве случаев угадывали.
Лопали за обе щеки Танину стряпню, нахваливали, потом Приходько помогал Тане мыть посуду.
Никита и Вася Чубатый «резались» в шахматы.
А Бабакулиев колдовал над кофе, никого не допускал к священному ритуалу.
Несколько раз пыталась Таня пригласить любимца своего Ваню Федотова. Он очень вежливо, но твердо отказывался. Таня недоумевала, все допытывалась — почему, но Иван только опускал голову, молча переступал с ноги на ногу и краснел.
Он был солдат и жил со своими товарищами в одной казарме, а старшина и капитан были его командирами. Он не мог и не хотел...
— Оставь его в покое, — сказал Никита, — он прав. Существует солдатская этика.
Когда Никита возвратился домой после долгого дня беготни, писанины и любования мерзкой рожей Яя, Таня работала над иллюстрациями, а напротив нее, на краешке стула, сидел Ваня Федотов и тоже рисовал — Таню. Оба так увлеклись, что не слышали шагов Никиты. Он стоял в проеме двери и улыбался, и глядел на них.
А они его не видели. И чем дольше он глядел, тем отчетливее понимал, что Ваня Федотов влюблен в Таню.