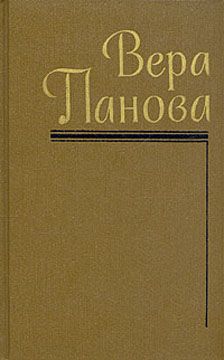Владимир Христофоров - Пленник стойбища Оемпак
Мы расстались не сговариваясь о встрече, так как я окончательно убедился в ее «детсадовском» возрасте. Она стала заходить в редакцию, но волшебные сказки — слава богу! — больше не писала, просто выполняла поручения отдела информации, печаталась. Любила посидеть в нашем кабинете. Придет, бывало, тихо поздоровается, присядет на свой стул возле окна. Если у нас со Старухиным было время, зубоскалили с ней, чтобы лишний раз увидеть поразительный румянец на ее щеках; если нет — работали, а она посидит и незаметно выйдет. Вот и все. При ней я даже умудрялся по телефону назначать свидания.
А через некоторое время меня отправили собственным корреспондентом газеты в соседний промышленный городок, где сооружался крупный металлургический комплекс. Я окунулся в новую жизнь, завел новых знакомых. Моей подругой стала полненькая блондинка-рентгенолог с пронзительными, словно сам рентген, глазами. Она только что разошлась с мужем и пребывала еще в том состоянии, когда неожиданная свобода радует, мир кажется шире и разнообразнее, а поступки легки и смелы. Она иногда приходила ко мне, и я просил ее рассказать о Крайнем Севере, где она прожила с мужем несколько лет. Север для меня оставался далекой землей, окруженной джеклондонским ореолом, а она была первым живым человеком в этой загадочной земле. И кто знает: не она ли виновата в том, что я сейчас живу на Севере?
Лариса
Когда я перелистываю эти старые тетради, смешанные чувства владеют мной: я смеюсь и грущу, умиляюсь и стыжусь. Меня как бы снова начинает волновать то мое состояние, я заново переживаю события, встречи. Мне дорог тот мир, такой ясный, наивный и такой сложный! Костя, наверное, хохотал бы до упаду, читая эти строки. Вот почему мне не хочется, чтобы он видел мои дневники. Как я прятала их от чужих глаз! В общежитии — от девчонок, дома — от мамы. Костя, зная о существовании тетрадей, сказал, что, если я не захочу, он никогда не прикоснется к ним. Нет, он сказал даже не так: «Еще не хватало, чтобы я рылся в чужих бумагах. У меня своих достаточно». А все же грустно было такое слышать. Разве ему неинтересно, как жила я все эти годы? Это ведь целая жизнь! Наверное, он думает, что я все эти годы только и делала, что о нем думала. Я ведь тоже была любима, и, может быть, это чувство было ко мне таким же всепоглощающим…
Впрочем, зачем об этом? Теперь мы вместе, и теперь нас ничто, кроме смерти, не может разлучить. Просто любовь надо воспитывать, как надо воспитывать чувство долга, способность к труду. Даже когда целуешься, может быть, в данную минуту у тебя совсем иное настроение. Мне смешны женщины, мучающиеся со своими мужьями. Мужчины, в сущности, — большие капризные дети. Надо, во-первых, делать так, чтобы рядом с тобой он мог почувствовать свою силу и… превосходство. Древний механизм: слабость одного вызывает ощущение силы у другого. Как это важно в наш век, век сплошного равноправия между мужчиной и женщиной! «Ведь даже по внешнему виду трудно различить сразу, кто к какому полу принадлежит.
Об этом я часто думаю, вернее, не забываю никогда. Любопытно, как я могла еще в те годы разработать целую систему о взаимоотношениях в семье? В ней сорок шесть пунктов и шесть подпунктов. На их реализацию, по моим подсчетам, необходимо пять лет. С Костей мы живем один год и семь месяцев и… четырнадцать дней. У нас все хорошо, хотя я три раза плакала и лишь однажды подумала, что идеал недостижим, а счастье сомнительно. Но это было лишь один раз. До полного осуществления моей системы остается три года. Это небольшой срок. Потом мы будем жить в полнейшем согласии. Я совсем не хочу перевоспитывать Костю, просто, может быть, что-то надо подправить для его же пользы. Эти поправки касаются некоторых сторон его образа жизни. Ведь я обещала продлить ему жизнь. Мы должны с ним выжать максимальный срок пребывания на этой планете и кое-что на ней повидать. Но главное — мое присутствие должно вызвать у него потребность смягчать речь и манеры, шутить, чтобы его природная душевная щедрость распространялась на всех окружающих, а его сила и мужество вызывали уважение, и благородство действий шло бы от благородства мыслей. Вот и все!
Мне недостает образования и воспитания, я так далека от Кости в умственном развитии. Я ничего не умею, многие слова говорю неправильно… Мне еще надо изучить какое-нибудь дело, небольшое, но необходимое ему. Изучить досконально и стать профессором в своей области. Об институте я не мечтаю. Да это и не обязательно. Я никогда не стремилась во что бы то ни стало поступить в институт. У меня не было твердого убеждения — и какой поступать. И хорошо. Нет ничего глупее поступить в первый попавшийся вуз. Как бывают порой ничтожны люди с ромбиками на лацканах! Но хватит, иначе это покажется обыкновенной завистью.
Мне хочется смотреть, как говорят, в рот своему любимому мужу, хочется им восхищаться и чувствовать себя рядом с ним немножко дурочкой.
Послушай, что писала я в семнадцать лет:
«Как хочется забиться где-нибудь в уголок и сидеть, легко дыша, оттого что не нужно убеждать кого-либо в неправоте понимания высшего смысла жизни. Как надоело! После той ночи с Ним, пока шла домой, в душе моей поселилась непонятная грусть, настроение было минорное, а вокруг бушевала весна. Мною овладела какая-то апатия, хотя все было красиво.
Впервые не поехала на занятие. Симулянтка ликует, все оказывается нипочем, когда дело касается личного удовольствия.
…Испытываю отчужденность. Жалкий остаток независимости мешает мне слиться с толпой. Взгляды и уделяемое мне внимание раздражают меня.
…Мне кажется, наша любовь чище и светлее горного хрусталя. Неважно, что с момента нашей встречи прошло несколько дней. Я верю в любовь с первого взгляда! Как все-таки таинственно все вокруг, прекрасны люди. Интересно жить!
Глупый сосед Федорушка сказал сегодня мне: «Лариска, я тебя чекаю!» А я ему серьезно: «До чего ж в тебе нет гордости!» Ха, знал бы он про нас с Костей! Но ведь я не могу с ним дискутировать на эту тему. Для этого у меня дневник…»
Пожалуй, я сделала верно, что сохранила дневник, не поддалась много раз возникавшему желанию уничтожить его. Это мой тыл, это, как бы сказал Костя, музыка обратного времени, которой лишены — и от этого бедны духовно — многие, очень многие люди. Дневники надо хранить! Мне пришла странная мысль: если бы у всех существовали личные дневники детства и юности, то, наверное, люди были бы лучше. Ведь они забывают про себя, про то, что когда-то были наивны и чисты. Они забывают своих родителей в молодости, свой родной дом, его дыхание, запах и тени.
…«Сегодня пришлось убить молодого белого медведя. Константин поранил руку, и, кажется, сильно, но нет никакого несчастья. С ним ничего не может случиться никогда! Если он даже вздумает умирать, я своим криком и воем, своей силой воли верну его, уходящего. Только бы не прозевать этого момента. А вдруг ему станет совсем плохо? А вдруг заражение? Не думай, не думай про это! Не позволяй себе распускаться. Еще раз взгляни в зеркало — ты, Лариска, должна следить за собой, чтобы всегда быть красивой. А разве я красивая? Красивая?»
2
— Костик, ты не переживай за медведя! — кричит откуда-то из глубины дома Лариса.
«Не переживай». А если медведя летом вынесет на берег? Приедут работники заповедника, начнут выяснять — как, откуда, кто? Ульвелькот не поленится достать пулю из черепа. «Однако, моей винтовки пуля-то. Вот и давай вам оружие на хранение…» Стыд и позор!
— Костик, давай заплатим штраф. Ты протокол на меня составишь, — кричит где-то совсем рядом Лариса.
Ну и домина у нас — не сразу и определишь, где она. Может быть, в моем кабинете. Или в Зале Голубых Свечей. Или в библиотеке, «будуаре».
А что, это мысль. Умница! Напишу объяснительную записку, покажу шрам на руке. Заплатим, заплатим мы этот штраф!
В дверь просовывается курчавая голова:
— Что нам с тобой, Котенок, какие-то две сотни рублей.
— Не две, а пять, — поправляю я.
— Ну пусть пять. Давай правда заплатим.
Я размышляю, скрытно радуясь за свою Лариску, а сам значительно выговариваю:
— Ужас! Ты совсем не мучаешься за убитого мишку. С такой же легкостью готова выложить деньги. Нет, нет у тебя сердца! За пятьсот рублей можно купить японский магнитофон — само совершенство. Но ни за какие деньги не сделать нового медведя.
— Можно родить нового, — вставляет Лариска.
— Родить, родить. Вот и попробуй роди, — неожиданно заключаю я.
Зря я так. Такие вещи не надо говорить женщине, у которой еще нет ребенка. В шутку брошенное слово рождает в ней какие-то свои глубинные волны. Я догадываюсь, о чем она думает.
— Котенок, где сегодня будем обедать? — спрашивает она со вздохом.
Обедаем мы на кухне и лишь в особых случаях закатываем торжество в Зале Голубых Свечей. Угадывая ее желание, я отвечаю: