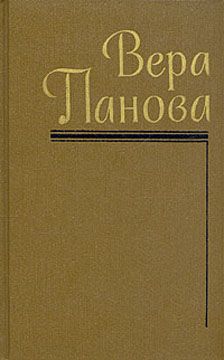Владимир Христофоров - Пленник стойбища Оемпак
Белый медведь лежит на лопатках. Моя правая рука вцепилась в горло с бьющимися змеями-мускулами. Левым боком и локтем я давлю его правую лапу, левой он сдирает на моей спине кожаный верх куртки. Мне не видно, но — может быть, одной лапой он скребет мерзлую стену — слышно, как осыпается мелкая галька и песок. Мышцы у нас обоих точно готовые вот-вот лопнуть струны. У кого первого? Мы замерзли и выжидаем, чтобы там, где ослабнет мускул, молниеносно нанести новый удар.
Я начинаю постепенно приходить в себя, лихорадочно соображаю, как выпутаться из этой истории. Можно закричать, но страшно — крик послужит зверю сигналом к последней атаке. Пока он тоже в шоке. Неожиданно я делаю радостное открытие: оказывается, до сих пор я живой лишь потому, что подо мной не взрослый медведь, а, по-видимому, годовалый. Взрослому зверю потребовалось бы меньше минуты, чтобы придушить меня. Иному белому медведю и тысячекилограммовый морж не страшен. А во мне всего сто с небольшим.
Я пытаюсь сдвинуть левую руку к горлу медведя, чтобы помочь правой сжать его. Он тотчас высвобождает вторую лапу и хлещет ею по моим ребрам и лопатке. Я снова всем телом налегаю влево и прижимаю его лапу к стене.
От близкого звериного дыхания меня начинает мутить, кажется, что сейчас я потеряю сознание. Яма забита кислым моржовым мясом для ездовых собак охотника Ульвелькота. Но к этому запаху я привык, как привык и к самой моржатине.
— Коте-е-но-ок? Где ты? — слышу далекий голос Лариски. — Котенок!
— Здесь, — шепчу я с трудом и начинаю злиться. А когда злишься, можно испортить все дело. В приступе бешенства можно на все плюнуть и просто встать с опрокинутого медведя. Сейчас я злюсь на это дурацкое прозвище «Котенок». Оно произошло от моего имени, и его придумала Лариска. Какой я котенок? Хотя действительно сейчас славно котенок в лапах разъяренного зверя.
— Котено-о-к! — опять раздается сверху.
Я улавливаю в голосе нотки тревоги. Кажется, идет. Молодец моя Лариска! Я даже слышу ее шаги. Она никогда не кричит, у нее одно восклицание на все случаи жизни: «О-о!» Но со множеством оттенков.
— О-о! Котеночек, ты что тут делаешь? — шепчет Лариска.
Я не могу поднять голову, и мне хочется выругаться. Однако не ругаюсь. Однажды, услышав от меня довольно безобидное словечко, Лариса умоляюще попросила при ней не «выражаться». Она не хотела даже на йоту разрушить то представление обо мне, которое сложилось у нее. С тех пор я никогда при ней не ругаюсь.
— Возьми карабин! Быстро! — чуть ли не рычу я в пасть медведя.
Боюсь, что последнего слова она не расслышала. В иные моменты Лариске не откажешь в ловкости и силе молодой пантеры. Кстати, ее так и называли в школе — Черная Пантера. Если, конечно, сама не придумала.
Но вот я уже слышу лязг затвора и чувствую, как ствол карабина упирается в мой оголенный затылок.
— Да не в меня! Ниже! — кричу я изо всех сил. Бедняга, у нее, наверное, дрожат руки. — Скажи что-нибудь перед выстрелом, — задыхаюсь я от натуги. — Мне надо руку убрать.
Карабин, наверное, сейчас нацелен на узкий лоб медведя, и вполне возможно, что пуля, пройдя сквозь его череп, попадет в мою руку.
— Стреляю!
Одновременно с грохотом выстрела я отдергиваю руку, и челюсти медведя смыкаются на моем запястье. Его тело судорожно вздрагивает и расползается, будто незастывший студень. На меня валится Лариска. Пахнет пороховым дымом. Ствол карабина она засовывает в пасть медведя, и я вынимаю окровавленную руку. Она осторожно берет ее и прикладывает к своей щеке. Я слышу хлюпающие звуки, но всхлипы резко обрываются. Она знает, что я не люблю слез, и поэтому лишь судорожно сглатывает:
— Давай, Котенок, скорее. Я тебе помогу. Все хорошо, все хорошо… Главное, ты жив. Не переживай. Поднимайся, милый! Вот так. Теперь становись на мою спину.
Я валюсь на ее хрупкую, узкую спину и хватаюсь одной рукой за край ямы. Рушится галька. Лариска не выдерживает моего веса и приседает.
— Подожди, давай вот так. — Она толкает меня головой под зад, и я переваливаюсь за край ямы. Вот черт, откуда в ней такая сила.
Наш дом стоит неподалеку, на косогоре. Слева океан, забитый торосами разного цвета — от бутылочного до голубого и розового; справа — огромная рыжая долина, заканчивающаяся уже по-осеннему мрачными величественными горами; старая банька, вездеход возле крыльца. В который раз я опять думаю о собаке. Если бы была собака! Все это жадный Ульвелькот с его ультиматумом: до начала охотсезона никаких собак! Чтоб, значит, песцов не пугать.
Неизвестно, кто кого ведет — Лариска обхватила меня обеими руками, и это очень мешает мне передвигаться. С кончиков пальцев раненой руки на индевелую траву падают капли крови и оставляют на ней черные пятна.
Вот и дом. Мне жалко моей кожаной куртки, и я пытаюсь ее стянуть. Но Лариска проворно вспарывает ножницами рукав, потом свитер, нательную рубаху. Ловко перетягивает жгутом предплечье. Мне страшно смотреть на свою изуродованную руку. Первая мысль — как работать? Бинт, смоченный в йоде, опаляет огнем. Пока Лариска колдует над раной, я свободной рукой стираю кровь с ее щеки и, тыкаясь носом в ее черные курчавые волосы, шепчу:
— Баранья ты башка…
— Это ты баранья башка, — ласково откликается мне Лариска. Она очень редко ворчит на меня. А на этот раз в словах упрек: — Это ты баранья башка. Зачем ты убрал руку? Я ведь все понимаю.
— Зачем, зачем? Теперь можно рассуждать. Пули боится каждая клеточка тела. — Я, конечно, оправдываюсь, мне стыдно, что я поспешил отдернуть руку. А как знать? Пуля могла раздробить кость, и тогда мне пришлось бы идти в инспектора Госстраха.
— С рукой пока все. Давай теперь я тебя всего осмотрю, может, есть где царапины. Вон на спине живого места нет. На коленях… — Она раздевает меня, и я замечаю, что делает она это с видимым удовольствием.
Ее лицо время от времени озаряется радостью открытия:
— А вот здесь, Котенок, еще царапина. Сейчас мы ее…
— Баранья Башка, мне холодно. Хватит. Растопи печь. Будем пить чай и думать, как жить дальше.
— А чего думать? Рука заживет. Я пока буду твоим и.о.
— Медвежонка надо спрятать, — говорю я. — Нельзя убивать белых. Тем более нам, работникам заповедника.
— Но ведь это вынужденно, — возражает Лариса, но с таким безразличием, словно дело идет о цветке, сорванном с общественной клумбы.
— Скоро появится Ульвелькот, и тогда все побережье узнает. Потом доказывай, что ты не верблюд. Мы должны блюсти свой престиж, — высокопарно заключаю я.
— Чего? — Она удивленно смотрит на меня.
— Престиж. Авторитет, значит.
— А, да, я просто забыла.
— Не забыла, а скажи честно, что не знала.
— Нет, забыла. Ты его еще записывал в мой словарик.
— Господи, Баранья Башка, такие слова знает первоклассник.
— Хорошо, не волнуйся. Ты — болен.
Лариса воспитывалась в русской семье, но училась сначала в украинской, потом в русской, потом опять в украинской школе. Когда мы познакомились, она смешно коверкала слова: «Пришла с кино», «фрукты пришли с посылки», «смеется с тебя…» Особенно неладно было у нее с ударением: арбуз, соблазн, во-первых и так далее. До сих пор не пойму, как это получилось: пли недостаток в школьном образовании, или нелюбовь к чтению. Да нет, о последнем не скажешь — читать она любит. Поэтому Лариска завела себе тетрадку, куда записывает все непонятные слова. Иногда вписываю я.
Впрочем, сейчас она говорит довольно правильно, хотя до сих пор не знает значения некоторых слов. Но это не беда, дело наживное.
— Давай хоть шкуру снимем. Я, может, единственная женщина на всем свете, которая убила белого медведя. Представляешь, Котенок, шкура будет лежать возле нашей кровати.
— Нельзя, Лариса. Надо спрятать в торосах.
Я действительно боюсь ответственности за убитого медведя и пока не догадываюсь, что в моих словах звучит обыкновенная трусость и малодушие. Выходит, быстрее убрать концы в воду? А что говорил наш начальник Коуров? Мы обязаны вести подробный «судовой» журнал, фиксировать все происшествия, изменения в природе. Как же быть? Нет-нет, убрать, спрятать, скрыть и… концы в воду. Не простят нам, не поймут.
Она отворачивается.
— Как знаешь… — В голосе ее явное недовольство, но она тут же смягчает тон: — Впрочем, твое слово для меня — закон! Ты как всегда прав.
Плохо, наверное, всегда быть правым. Неинтересно. Но об этом я не говорю, незачем ей это слышать. Пусть думает, что я всегда прав. Просто теперь надо делать так, чтобы правота моя не вызывала сомнений.
Лариса треплет меня по щеке — надо сказать, довольно фамильярно.
— Господи, как мне хорошо с тобой! Мы пройдем через все испытания, и я продлю тебе жизнь на много-много лет.
Я недовольно кривлюсь — сейчас начнется ее любимая тема про лечебные травы, которые она прихватила с материка. Вот уж где позавидуешь ее эрудиции: токсины, аритмия, сенсорный голод, депрессия и прочая медицинская дребедень. В таких случаях, предвосхищая водопад многочисленных сведений на эту тему, я выставляю ладонь и говорю: «Спокойно! Я все знаю: бессмертник — мочегонный, шиповник — промывать кишки, прости, печень, липовый чай с похмелья…»