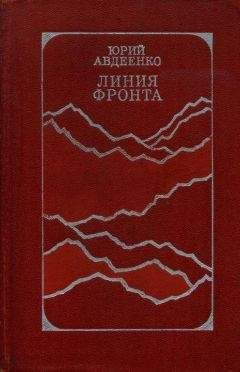Юрий Авдеенко - Дикий хмель
Мужа застала спящим, несмотря на то что время было двенадцать часов дня. Открыл он дверь в своих синих сатиновых трусах. И тупо посмотрел на меня заспанными глазами.
— Ты? Чего? — спросил с порога голосом, просушенным и прокуренным.
— Посмотреть, как пишется «вещь».
— А... — неопределенно произнес он, видимо находясь еще в полусонном состоянии.
Сквозь открытую дверь увидела на кухне стол, пустую бутылку из-под коньяка, две рюмки. Спросила:
— Ты не один?
— У-у-у? — он еще не проснулся.
— Ты один в квартире?
— Один. А почему спрашиваешь?
Я быстро прошла на кухню. Рядом с бутылкой увидела пепельницу, полную окурков от «Беломора». На окурках следы губной помады.
— У тебя были гости?
Он отрицательно покачал головой.
— Будешь уверять, что пил коньяк из двух рюмок? И, шутки ради, красил губы помадой?
Буров сморщился, махнул рукой:
— Мать оставила.
— Она уже две недели в Болшеве, — возразила я.
— Что же я? Буду за ней убирать? — неподдельно возмутился он.
— Ну и сынок... — на рюмках, на пластике стола тонким, но плотным слоем лежала пыль. Похоже, что Буров говорил правду.
— Ты бы предупредила, я бы прибрался, — он зевнул сладко и протяжно.
— Почему спал так долго?
— Писал ночью.
— Что-нибудь получается?
— Скоро дам почитать.
Я не очень верила в горячие сыновние чувства Бурова к матери, но по-своему он, конечно, любил ее. И такая телеграмма! Лаконизмом она могла потрясти кого угодно.
— Ты только не пугайся, но с твоей мамашей произошла неприятная история, — сказала я.
— Она приезжала к тебе? — спросил он озабоченно.
Сквозь щели в неплотно сдвинутых шторах в комнату проникали три узкие вертикальные полоски света. Одна из них упиралась в спину Бурова, разламывалась над его лысой головой, образуя сияние, похожее на нимб.
Я улыбнулась не к месту. Но именно эта непроизвольно вырвавшаяся улыбка хорошо подействовала на Бурова, как бы подчеркнула: случилось не самое страшное, поскольку еще можно улыбаться.
— Нет. Она не приезжала. Принесли телеграмму.
Он взял бланк. Подошел к окну, отдернул штору. Свет накатился волной, голубой, солнечный. Потом схлынул. И я увидела за стеклом чистую улицу. Безлюдную и тихую.
Буров спросил:
— Поедешь со мной?
— Куда же я денусь? — недовольно спросила я..
— Действительно, — подумав, согласился он. — Мне, видимо, надо бы побриться.
— Совершенно верно, — сдерживая раздражение, сказала я.
Буров долго и медленно ходил по квартире в поисках бритвы, потом долго и медленно брился. Никак не мог найти галстук. Показаться же в больнице без галстука ему казалось верхом вульгарности.
— Может, мне съездить одной? — спросила я.
— Как одной?
— Просто как невестке. Скажу: сын ищет галстук, приедет, когда найдет.
— Шутка не ко времени, — проворчал Буров.
И тогда я догадалась: Буров волнуется. И волнение выражается вот так странно: замедленными движениями, вялостью. Выругала себя за черствость. Сказала ласково:
— Ты прости меня. Вспомни, где бы ты мог его снять. Может, на кухне?
Буров послушно поплелся на кухню. Оттуда вернулся с галстуком в руках...
...Дежурный врач, приземистый, с добродушным широким лицом, привычно сказал успокаивающим тоном:
— Не волнуйтесь. Травмы для жизни не опасные. Сейчас небольшая температура. Недели через четыре будет трудоспособна.
— Что ей можно приносить? — спрашиваю я.
— Фрукты, — отвечает дежурный врач. — Можно все, но нецелесообразно... Фрукты, фрукты. Это всегда полезно.
7Желтые улицы убегают от палящего зноя под тополя, под ивы. Убегают гулом автомобилей, шарканьем подошв, запахами гудрона, бензина.
А где-то под желтым небом есть запахи полыни и чабреца, ромашек и шиповника, ворчание шмеля, шелест березы. И, наконец, есть сено, свежее, зелено-желтое. Зелено-желтое, теплое сено...
Я никогда не спала на сене.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Рассказ назывался «Хобби». В правом верхнем углу стандартного машинописного листа было крупно напечатано: «Андрей Буров». Потом, ближе к центру, шло название, отбитое двумя жирными линиями. Под ним мелко слово: «рассказ».
Это была долгожданная «вещь», которую Буров писал столько лет, или часть «вещи». Возможно, он работал над целым циклом таких рассказов. Мне неизвестно.
Кажется, мои откровенные высказывания о его литературных делах возымели действие. Буров решил приподнять завесу тайны. Доложиться, что ли. Во всяком случае, он протянул мне рассказ. И с заметной робостью в голосе попросил:
— Прочитай. Выскажись.
— Так высоко ценишь мое мнение?
— Первое мнение всегда важно.
— Отнес бы прочитать своей маме.
Юлия Борисовна уже выздоровела. Надо сказать, ей повезло. В отличие от водителя, который скончался, не приходя в сознание, она получила лишь перелом ключицы и легкое сотрясение мозга.
— Мать — пожилой человек, — сказал Буров. — Этот рассказ ее расстроит.
— Он что? Фривольный?
— Нет; — покраснел Буров.
...У меня, к сожалению, не сохранилось экземпляра рукописи этого рассказа. Но я читала его много раз. И сейчас постараюсь пересказать его так, как он мне запомнился.
Х о б б и.Это странное и, как показалось на слух, неприличное слово Иван Сидорович Доронин услышал впервые от своего соседа Наумова. Морщинистый и жухлый, как старая перчатка, Наумов был неистощим на болтовню, выдумки, матерщину. Потому верить ему особенно не приходилось, хотя Наумов, тряся своей желтой, как осень, бородой, клялся, что это очень даже приличное слово заграничного происхождения. Поздно вечером, лежа в кровати, Иван Сидорович спросил у супруги:
— А ну-ка, скажи, мать, что такое «хобби»?
— Охальник, — укоризненно ответила Марфа Денисовна. Потом долго не могла уснуть.
Лысенький, пузатенький, с маленькими хитроватыми глазками, Доронин уже много-много лет работал старшим мастером на уважаемой в Москве обувной фабрике. Был бессменным председателем цехкома. Фабрику считал родным домом.
Он не был очень образованным и культурным человеком. Сказать больше — он был малограмотным. Писал слово «культура» без мягкого знака. Вместо «поздравляю» говорил «проздравляю». В девяти случаях из десяти путал ветеранов с ветеринарами. А творительный падеж слова «муж» признавал лишь как «мужами». Перед Новым годом, Восьмым марта, майскими, ноябрьскими праздниками он неизменно говорил:
— Дорогие женщины, от имени цехкома проздравляю вас, молодежь и ветеринаров фабрики.
Голос с места:
— Ветеранов!
Доронин:
— Я ж и говорю, ветеринаров фабрики с наступающим праздником. Приглашаю в клуб на торжественный вечер с мужами!
Однако женщины на фабрике были добрые. Юмор понимали. С годами Иван Сидорович стал на фабрике такой же редкой примечательностью, как падающая Пизанская башня.
И вот, услышав слово «хобби», Иван Сидорович, вопреки всякой логике, оказался им страшно заинтересованным. На другой день пришел в библиотеку фабкома и попросил «словарь заграничных выражений». Девушка, которая хорошо знала Доронина, принесла ему словарь иностранных слов. И, помня о несильной грамотности профсоюзного босса, спросила, каким именно словом он интересуется. В ответ Доронин засопел так, словно у него насморк, покрылся испариной и не нашел ничего лучшего, как сказать:
— Интересуюсь словом на букву «х».
Девушка порозовела и больше не задавала лишних вопросов.
На странице 762 Иван Сидорович нашел наконец место, где, по его мнению, должно было разместиться это проклятое слово. Прочитал: «Хоаны — анат. Задние отверстия полости носа, ведущие в носоглотку».
Следующим стояло слово «хоккей». Читать его значение Доронин не стал, так как знал про это больше, чем составители словаря. Он просмотрел всю страницу. «Хобби», или чего-либо похожего на это слово нигде не было. Иван Сидорович понял, что Наумов по обыкновению своему разыграл его. Вздыхая, почесал затылок. Затем он полюбопытствовал, что означает слово «холизм». Возвращая словарь девушке, сказал, чтобы она недодумала чего плохого:
— Я, значит; о слове на букву «х»... Холизм — одна из форм современного идеалистического мракобесия... Используется для восхваления империалистических притязаний и для подавления классовой борьбы трудящихся.
Девушка не возражала.
Между тем весь остаток рабочего дня это тяжкое, заумное слово вертелось в голове Ивана Сидоровича, точно назойливый мотивчик какой-нибудь простенькой песни:
«Хобби, хобби, хобби!
Хобби, хо-о-о-бби!»
Перед глазами время от времени появлялось бородатое лицо Наумова, слышался его саркастический голос: