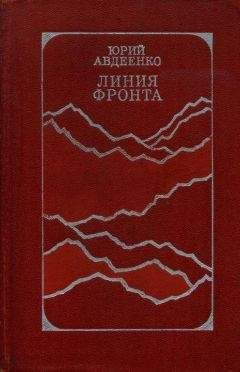Юрий Авдеенко - Дикий хмель
— Да, — сказал Луцкий, словно квакнул. Почесал затылок. — Я уверен, в недалеком будущем ставки инженерно-техническим работникам будут пересмотрены.
— А зачем? — возразила я. — Институты ломятся от желающих получить дипломы. К работе за конвейером у молодых тяга меньше.
— Вы улавливаете в этом противоречие?
— Да, но не только. Я считаю совершенно правильным стимулировать те профессии, в которых ощущается острая нехватка кадров. Если в столице не хватает водителей трамваев, пусть водитель получает вдвое больше, чем инженер.
Дверь приоткрылась. Словно птица, наклонив голову набок, в кабинет заглянул Широкий. Спросил вкрадчиво:
— Можно, Борис Борисович?
— Да, да, Георгий Зосимович, — жестом радушного хозяина пригласил Луцкий.
Широкий пошел от двери как-то очень странно, ступая с пятки на носок. И шаг получился семенящий, услужливый. В цехе он ходил совсем иначе. Может, ковер в кабинете директора и эти отделанные под дуб стены действовали на ноги Широкого, как ревматизм?
— Садитесь, — сказал Луцкий.
С облегчением, отодвинув от стола низкий, отделанный красным пластиком стул, Широкий не сел, а, казалось, упал на него.
— Здесь Наталья Алексеевна принесла...
— Знаю, знаю, Борис Борисович. Все верно. Все верно. Закройный цех режет нас без ножа. И народный контроль — это большая подмога...
Луцкий вначале кивнул, но потом вдруг сморщился. Стал шарить взглядом по столу, будто разыскивая что-то.
— Я хотел сказать, — поправился Широкий, — большая сила в решении важных производственных задач.
Но тут опять отворилась дверь, и вошел начальник второго закройного — худой, высокий парень с рыжей, как ржавая лопата, бородой.
Сказал:
— Привет!
Сел не за стол, а в кресло у окна, закинув ногу на ногу, словно демонстрируя запыленные кеды. Тут же закурил, разумеется не спросив ничьего соизволения. На протяжении разговора пепел сбрасывал на ковер до тех пор, пока Луцкий не вышел из-за стола и не принес ему хрустальную пепельницу.
— Я оторвал вас от работы, — начал Луцкий, — чтобы обсудить акт, который представила мне комиссия народного контроля... Акт очень серьезный. В нем утверждается, что из второго закройного в пятый цех систематически поступает продукция с недостачей деталей кроя по ростовочному ассортименту, а также недоброкачественная. Меня удивляет, что этот острый сигнал я получаю от общественной организации, а не от товарищей, которые непосредственно отвечают за работу цеха. Почему это?
Широкий:
— Мы обсуждали этот вопрос.
— Ну и? — нетерпеливо спросил Луцкий.
— У меня не хватает рабочих, — сказал бородатый начальник второго цеха. — У меня не хватает не просто квалифицированных рабочих, у меня не хватает любых рабочих, даже без всякой квалификации.
— Что же вы предлагаете? — голос Луцкого был строг.
— Устраивать облавы около ГУМа и магазина «Детский мир». Всех бездельников за конвейер.
— Я вас спрашиваю серьезно. И вам, молодому специалисту, занимающему ответственную должность, не к лицу паясничать.
— Если серьезно, то освободите меня от должности начальника цеха.
Широкий испуганно заморгал; словно рассчитывая ресницами защититься от крамолы. Луцкий побледнел. Вот тогда-то он встал и отнес бородатому начальнику пепельницу. Вернувшись за стол, решительно спросил:
— Миронова, пойдете начальником во второй цех?
Я буквально подскочила:
— Да вы что, Борис Борисович, прямо от конвейера?
— Поверьте мне, Наталья Алексеевна, — гневно сказал директор. — Это лучше, чем от студенческой скамьи.
За его уверением была логика. И не только логика, но и печальная практика. Но я не была готова к такому повороту событий. Я откровенно испугалась. Подалась корпусом вперед, к столу. И протараторила:
— Нет, нет, Борис Борисович, так сразу я не могу.
Луцкий ничего не ответил. Взял авторучку и стал что-то писать в левом верхнем углу акта. Писал долго.
Наконец вызвал секретаршу, отдал ей акт. Сказал:
— В приказ!
Я сидела, нагнув голову, смотрела себе в колени. Впервые присутствовала при ситуации, которую на фабрике все называют одним словом — «разнос».
Услышала голос директора:
— Диспетчеру закройного цеха Жариковой — выговор. Мастеру смены Горбатовой — выговор. Вам, — это относилось к бородатому начальнику, — строгий выговор. Еще подобный случай — уволю. И не гримасничайте. Такую характеристику дам, всю жизнь вспоминать будете. Идите.
Бородатый начальник усмехнулся, поставил пепельницу на ручку кресла. И ушел, не сказав до свидания.
— Георгий Зосимович, вами я тоже недоволен. Это надо кончать.
— Что, кончать? — тихо и как-то тоскливо спросил Широкий.
— Где это видано? Фабрика задыхается от нехватки специалистов, а у вас человек с дипломом сколько времени сидит на конвейере... Под суд отдам. Под суд!!!
Мы не знали, можно ли за такое дело отдавать под суд? Или Луцкий просто грозился в гневе? Ушли из кабинета если не испуганные, то, во всяком случае, подавленные.
— Вот к чему самодеятельность приводит, — мрачно сказал Широкий, — Я, к вам, Наталья Алексеевна, с пониманием отношусь, с уважением. А вы ко мне ни понимания, ни уважения не проявляете. Идете на поводу у малокультурной и легкомысленной Закурдаевой. Как хотите, а бригадиром ей больше не быть.
И Широкий прибавил шаг, давая понять этим, что ему некогда, что никакие доводы ему не нужны.
Добралась домой еле-еле. Словно разговор с Настенькой отнял последние силы. Успела позабыть, что повздорила в столовой с Буровым. А он не забыл. Не встретил, как обычно, у дверей. Не взял авоську с продуктами. Остался сидеть в кресле. И смотрел на меня, как судебный обвинитель.
Днем я позвонила ему из цеха и сказала, чтобы он приходил в столовую. Буров сказал:
— Купи минеральной воды.
Но минеральной воды не было. Была только водопроводная. В посудомойке. Я налила стакан и поставила перед его тарелкой. Буров спросил:
— Как прошли выходные дни?
— В субботу целовалась на улице Герцена прямо на проезжей части.
— А машины? — Он не поверил. Он думал, что я шучу.
— Тормозили, как перед красным светом... А твои дела? Много написал?
В ответ он промычал, точно настоящий теленок. Он всегда мычал, когда дело касалось его «творчества».
— Бронислав сказал, что твой очерк о рыбаках не пойдет. Его зарубила редколлегия. И вообще, то, что ты написал, не здорово.
Морщинки, словно муравьи, забегали по лицу Бурова. Спросил подчеркнуто равнодушно:
— Красный свет... Это Бронислав?
— Угу... А как ты догадался? — предельно наивно поинтересовалась я.
— Ты могла бы не информировать меня о своих похождениях.
— Не нравится?
— Нет, — отрезал он.
— Давай разойдемся.
Он положил вилку. Осторожно огляделся по сторонам: не слышал ли кто моих слов, не обращают ли на нас внимание. Сказал:
— Поговорим дома.
...Я прошла на кухню. Вынула из авоськи кефир, докторскую колбасу, батон. Потом заперлась в ванной. Душ освежил меня немного. Но ванная была очень тесная. Я забрызгала пол. Пока вытерла тряпкой, опять навалилась усталость, будто бы я не освежалась...
Буров по-прежнему сидел в кресле. Я сказала:
— Мог бы и приготовить ужин.
Он сверкнул очками.
— Нужно сначала поговорить.
— О чем? — не поняла я.
Муж саркастически улыбнулся!
— Разводиться нам или нет.
Видимо, от усталости я была спокойна, как никогда. Мозг работал ясно. Злиться не хотелось. Спорить тоже. Хотелось молчать и смотреть...
Я села в кресло напротив. Теперь нас разделял только журнальный столик: хрупкий и красивый. На его полированном верхе отражалась распахнутая рама, цветы, стоящие на подоконнике, и даже облака в темнеющем небе.
Спросила тихо:
— Что ты хочешь сказать? Лучше бы ведро с мусором вынес.
Последняя фраза подействовала на него удручающе. Он словно бы уменьшился в кресле. Поежился. Снял очки.
— Сегодня за обедом ты ясно дала понять, что семейная жизнь со мной тебя не устраивает.
Хотела ответить ему: «Как ты догадался?» Но леность опутывала меня, словно сон. Я промолчала.
— Я полагаю, — продолжал Буров, — каждый из супругов должен обладать достаточно высоким чувством ответственности друг перед другом за свои слова и поступки.
Решила изображать на лице тупость. Глупо уставилась в зеркало серванта, где не было никакой посуды, кроме дюжины длинных хрустальных фужеров, подаренных на новоселье Анной Васильевной Луговой. Впрочем, какой смысл хоть что-то изображать на лице, если Буров снял очки и неспособен различать нюансы. А может, тупость не такой уж нюанс...
— Ты молчишь, — продолжал Буров, — это дает мне право надеяться, что слова твои всего лишь результат эмоций, а не работы мысли.