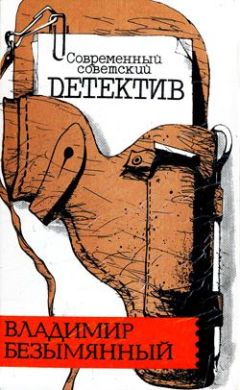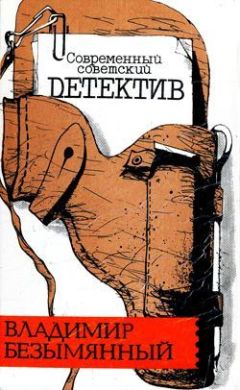Анатолий Ананьев - Версты любви
«Ку-ку, Алеша! Это я».
Он тоже с белым узлом под мышкой.
Я говорил брату и сестренке, чтобы никого не впускали, брал со стола завернутый отцовский пиджак и вместе с Владиславом Викентьевичем выходил на улицу.
На ветру, на морозе, губы и нос Владислава Викентьевича делались еще более синими; тонким вытершимся шарфиком он укутывал худую и высокую стариковскую шею, поднимал воротник своего неизменного клетчатого пальто, завязывал под подбородком маловатую ему кроличью самодельную ушанку, но это не спасало от холода; казалось, его ничто не могло согреть (теперь-то я знаю, греет не шуба, не пальто, а сытный завтрак, хлеб; но этого как раз и не хватало ему; и не хватало мне); он всю дорогу, пока шли и ехали туда и обратно, беспрерывно дрожал мелкой, ознобной дрожью. Но в первые минуты, пока еще сохранялось под рубашкою комнатное тепло, он бывал разговорчивым, даже пробовал шутить.
«Ну, слышал?» — спрашивает он, поворачивая ко мне морщинистое лицо и даже чуть приостанавливаясь.
«Что?»
«Сводку Совинформбюро».
«А что, немцы опять наступают?»
«Нет, Алеша, в том-то и дело, что нет. Не так-то легко Волгу перепрыгнуть, а что я тебе говорил? То-то».
«И наши стоят?»
«Готовятся, Алексей, силы накапливают. Ты Елизавету Сергеевну знаешь?»
«Дворничиху?»
«Да. Приходит ко мне вчера вечером и просит почитать письмо от мужа».
«От дяди Миши?»
«Да. И знаешь, что пишет Михаил Яковлевич? «Потерпи, — пишет, — недолог срок, по весне вдарим, а может, и раньше». Так прямо и пишет: «Вдарим!» — понял?» — И Владислав Викентьевич весело и удивленно вскидывал брови.
Затем он еще повторял это слово «вдарим», как будто что-то магическое было заключено в нем, хотя все, конечно, объяснялось проще, и я только не понимал, что для него, бывшего школьного учителя, всю жизнь преподававшего русский язык и литературу, оно звучало необычно, неграмотно; но слово это все же выражало силу, и потому в то утро, когда радио принесло радостную весть, что наши войска, прорвав линию обороны противника севернее и южнее Сталинграда, успешно развивают наступление, замыкая кольцо над мощной группировкой фельдмаршала Паулюса, Владислав Викентьевич, вбежав в комнату, возбужденно выкрикивал: «Вдарили, Алексей! Вдарили! А что я тебе говорил?» Я помню те дни, когда у всех как бы посветлели лица, когда соседи, встречаясь, празднично поздравляли друг друга, но жизнь тем временем шла своим чередом, и после весны и жаркого сухого лета, едва лег на землю первый белый и пушистый снег, мы снова отправились с Владиславом Викентьевичем знакомым маршрутом через сенной базар, неся под мышками белые свертки; мы не раз еще ходили и в лютые январские морозы, и по весне, когда черный осевший снег кашицей расползался под ногами, и как только трамвай довозил нас до сенного базара, едва спускались с подножки, тут же попадали в людской поток, который, как река, втягиваясь в проулок и делая несколько поворотов, вливался затем в шумное людское озеро, которое как раз и называлось толкучкой. Особенно много народу бывало в воскресные дни. По бокам проулка и на площади стояли и прохаживались женщины и мужчины, обвешанные старыми, поношенными, иногда пахнущими нафталином вещами, и мне всегда казалось, что продававших было больше, чем покупающих; они выкрикивали, потрясая в воздухе пиджаками и платьями, нахваливали свой товар, и у ног (не у всех, но были, хорошо помню, потому что Владислав Викентьевич говорил о таких: «Завсегдатаи, барышники!»), на самодельных железных жаровнях тлели древесные угли; барышники время от времени наклонялись, грели лица, руки, ноги и снова продолжали выкрикивать и трясти шарфами и платьями. Я не спрашивал Владислава Викентьевича, почему все эти люди не работают, но в детском сознании моем постоянно возникала такая мысль, и мне странно было и жутко смотреть на эту толпу; я прижимался к Владиславу Викентьевичу, держась за карман его клетчатого пальто или за руку, и прятался за спину, когда кто-нибудь из встречных, тыча пальцами в белый узел, вдруг спрашивал у Владислава Викентьевича: «Что у вас?» Мы проходили в самый конец толкучки, к фанерным ларькам, и потом долго стояли, пока Владислав Викентьевич высматривал, к кому следовало подойти и с кем говорить. Я до сих пор удивляюсь, как он узнавал нужных нам обменщиков (впрочем, нужда прижмет, так узнаешь, наверное); неожиданно он хватал меня за руку и, сжимая пальцами локоть, говорил: «Вон, видишь, во-он, мучное брюшко? Идем». Мы выступали вперед, как бы перегораживая путь медленно шагавшему какому-нибудь мужчине (чаще всего это бывали на вид старенькие, с бороденками, но почему-то одетые в защитного цвета ватные, похожие на армейские телогрейки), Владислав Викентьевич молча протягивал узел, и жест этот его был понятен встречному старичку.
«Что?» — будто недовольно, хмурясь, спрашивал встречный.
«Костюм, — шевеля замерзшими синими губами, торопливо произносил Владислав Викентьевич. — И вот еще», — добавлял он, выдвигая, подталкивая меня.
«А у него?»
«Тоже костюм».
«Шерстяной?»
«Разумеется».
«Чего хотите?»
«Нам бы муки...»
«Аржаная».
«Ну что, Алексей, аржаную возьмем, а?»
Я согласно кивал головой.
«Берем», — говорил Владислав Викентьевич старичку, и через минуту за фанерными ларьками мы уже переходили улицу и затем по плохо очищенному от снега тротуару шагали вдоль деревянных окраинных изб до первого поворота.
На углу мужичок останавливался и, оглядывая нас и улицу, непременно осведомлялся:
«Хвоста за собой не тянете?»
«Нет, что вы», — опять же поспешно отвечал Владислав Викентьевич.
«Ну-от, смотрите!»
Я знал, что означало «тянуть хвоста»; он спрашивал, не ведем ли мы за собой милиционера. Нет, конечно, никакого милиционера мы за собой не вели; подчиняясь жестам старичка в ватнике, мы входили через какие-то скрипучие ворота во двор, затем в холодные, с земляным полом и настывшими дощатыми стенами сенцы, и тут, при открытых дверях, чтобы светлее было, и непременно вместе с вышедшей из теплой избы хозяйкой, закутанной в пуховую шаль, начинался, как говорил тот же старичок, осмотр товара. Старичок разворачивал пиджак, брюки и, казалось, разглядывал каждую строчку, тяжело сопя и произнося то и дело (обращаясь больше к Владиславу Викентьевичу, чем к жене):
«Нелицованный?»
«Да вы что? Кармашек-то боковой — на левой...»
«Подклад, опять же, не черный».
«В тон костюму».
«В тон-то оно, известное дело, в тон, да черный бы, он не маркий», — говорил старик и начинал заново разглядывать и растягивать пальцами швы.
«Вшей ищете, что ли?!» — не выдержав наконец, восклицал Владислав Викентьевич.
«Вшей не вшей, а поглядеть надо».
«Глядите, но только побыстрее, потому что тут, в ваших сенцах, окоченеть можно».
«А сколько просишь?»
«Пуд дашь?»
«Эк куда загнул. За оба?»
«За один».
«Полпуда».
«Пуд».
«Полпуда!»
«Так ведь аржаная же?»
«Все одно хлеб».
«Ну, отвешивай, бог с тобой».
Все время, пока Владислав Викентьевич торговался, я стоял молча; от холода ли или оттого, может быть, что мне всегда неприятно было видеть, как бесцеремонно переходили из рук в руки (от старика к Владиславу Викентьевичу, и снова к старику) отцовские пиджак и брюки, я тоже весь ежился и вздрагивал; когда же старик, притащив из комнаты серый мешок с мукой, начинал насыпать ее в мерку, я уже не только не радовался, что выполнил поручение матери и что теперь, по крайней мере, месяца на полтора, а то и на все два хватит варить затируху (к тому же мать непременно хоть раз да испечет лепешки или пирожки с картошкой на плите!), но думал лишь об одном: как поскорее уйти из этих промозглых сенцев; и все же каждый раз я приносил домой неповторимый, мельничный запах муки и хлеба.
«Отчего их милиция не забирает?» — спрашивал я у Владислава Викентьевича, когда мы уже возвращались домой.
«Забирает, как же, почему не забирает».
«А этот?»
«Еще не попался. Да и слава богу, что не попался, иначе — к кому бы мы сегодня с тобой пошли?»
«А если сейчас заявить?»
«Нельзя. Мы, Алексей, по-честному: мы ему, он нам. Такие люди, как он, всегда были, есть и будут, без них нельзя. Они тоже делают своего рода доброе дело: вот, видишь, мы теперь и с затирухой, а попадется ли он или не попадется, это уж его дело, лишь бы мы по-честному».
Спорить с Владиславом Викентьевичем было, разумеется, бессмысленно, он по-своему смотрел на мир, потому и суждения обо всем были у него свои (думаю, и теперь есть люди, которые рассуждают так же или близко к этому); мне же то, что мы делали, не только не представлялось честным, но после каждого нашего обмена я несколько дней ходил молчаливым и мрачным: мне казалось, что мы совершали беззаконие — откуда мука? чья она? — и беззаконие это не могло совместиться с теми пусть детскими, мальчишескими (но они чисты!) понятиями справедливости устройства мира, доброты, товарищества, правды; как каждый вступающий в жизнь, я полагал, что законы существуют для всех и что все непременно выполняют их, по крайней мере, должны выполнять, а как же иначе, но что, кроме законов, есть еще высшая мера жизни, это честь и совесть, которая у каждого в душе и которую невозможно и не должно переступать, что так же, как я сам всегда бывал приветлив, добр и счастлив этой своей добротою, так же, мне казалось, должны были жить и все люди. А зло — это исключение. И вот в это ясное детское восприятие врывались война, сенной базар, толкучка, старикашки в защитного цвета ватных телогрейках (а ведь определение Владислава Викентьевича было верным — мучное брюшко! — ведь как мужичок ни отряхивался, а руки мучные и на телогрейке след!), врывались промерзлые земляные сенцы, серый мешок с мукой и хозяйка в шали, уносящая в избу ставшие уже чужими отцовские пиджак и брюки, и это была совершенно иная, грязная, чуждая мальчишескому миру жизнь, познавать которую было трудно и больно. «Почему существуют на земле люди, как этот продававший муку старичок? Почему у каждого — свое понимание добра?» Разумеется, тогда, в детстве, я не ставил так прямо и с такой определенностью эти вопросы; и даже, может быть, не совсем отчетливо понимал все, но что именно такое чувство протеста рождалось во мне, я хорошо помню. Я всегда издали наблюдал, как мать стряпала пирожки из принесенной мною муки; и что бы ни творилось у меня на душе, все же это бывал самый большой в нашей семье праздник. Мы начинали готовиться к нему загодя, за неделю вперед, и в утро, когда наступал долгожданный день, просыпались раньше обычного и прямо с постели, едва протерев глаза, смотрели, как мать снимала с теплой печки кастрюлю с выползавшим через края темным и приятно и кисло пахнущим тестом; первый испеченный пирожок с коричневой сухою корочкой мать разламывала надвое и отдавала меньшим — сестренке и брату, — и они, перекладывая горячие половинки из ладони в ладонь, не смеялись, не шутили, не веселились, а ели молча, сосредоточенно, как взрослые, знающие цену жизни и хлебу, и я, если хотите, пожалуй, впервые в зимний вечер в избе Пелагеи Карповны, когда за окном бушевала ранняя декабрьская вьюга, прохаживаясь от топчана к окну и вспоминая, вдруг как бы понял весь смысл детских сосредоточенных лиц. «Да и сам-то я как смотрел?» — подумал я, еще отчетливее представляя себя, чем сестренку и братишку. Сквозь неплотно прикрытую дверь из кухни, где Пелагея Карповна заводила хлеба, просачивался в мою комнату тот самый запомнившийся с детских лет приятный и кислый запах теста, и запах этот лишь усиливал впечатление от набегавших воспоминаний; я не спал долго, пока лампа не начала гаснуть, и то мальчишеское чувство протеста (хотя мне только теперь кажется, что в Долгушине я был уже взрослым, а на самом деле -— тоже ведь, в сущности, мальчишка: девятнадцать, двадцатый, чего тут) вновь подымалось и будоражило сознание. «Вот где начало, вот откуда этот мучной ручеек — туда, на толкучку, в промерзлые земляные сенцы! И, конечно же, не Пелагеи Карповны поставляли, и не сыновья их или мужья носят теперь костюмы с плеча моего отца; эти деревенские женщины — как Владислав Викентьевич, потому и Моштаков для них — своего рода добро, а не зло», — рассуждал я.