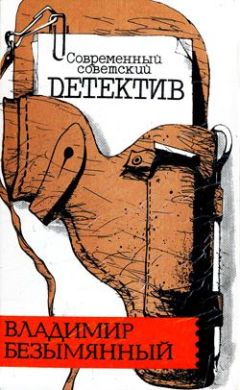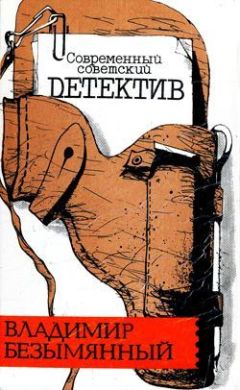Анатолий Ананьев - Версты любви
«Боятся?»
«Не то, чтобы боятся, а народ на добро памятен, вот что я скажу тебе, Алексей».
Разговор этот происходил вечером, за окном разыгрывалась ранняя декабрьская вьюга, ударяя в стекло пригоршнями снега и выстуживая избу; по дверному косяку от порога вверх шнурком ложилась голубоватая и пушистая изморозь. Прибежавшая со двора Наташа, сбросив валенки, забралась на печь; Пелагея Карповна, накинув на плечи старый, очевидно, еще мужний овчинный полушубок, пошла посмотреть корову: может быть, подложить ей в ясли сена, так как ночь, по всему, обещала быть еще морозней и скотине, чтобы согреться в нетеплом и наверняка уже теперь с заиндевелыми стенами коровнике, нужен корм; я же отправился в свою каморку (правда, тогда я не называл ее так, а, напротив, вы знаете, был доволен этой казавшейся уютной и не очень-то уж холодной комнатой) и, несколько раз пройдясь взад и вперед между топчаном и столом, что так и стоял (как при моих предшественниках) у окна, и затем, почистив фитиль керосиновой лампы, чтобы горела светлее, принялся было за свое привычное дело — составление карты севооборота. Почти каждый вечер с тех пор, как перестал выезжать в поля, я занимался обработкой и суммированием уже собранных материалов. Дело, однако, продвигалось медленно, да я и не спешил, так как хотелось все выверить поточнее, подсчитать, потому что понимал, что жизнь — это не учеба в техникуме и за ошибку здесь придется расплачиваться не просто огорчительной плохой оценкой в зачетной книжке; нет, я не мог и не должен был ошибиться; я сел за стол и в этот вечер с тем же чувством и желанием как следует поработать, но только что состоявшийся разговор с Пелагеей Карповной, особенно ее слова: «Народ на добро памятен» — как будто висели надо мною, мне было неприятно оттого, что я не ответил ей на эти ее слова, тогда как всего-навсего надо было сказать: «Да какое же это добро? Это зло. Самое настоящее зло», — и я мысленно и с сожалением, и в то же время так, будто все еще Пелагея Карповна сидела передо мной на табуретке, произнес эту представлявшуюся убедительной фразу. «Однако еще там, у Андрея Николаевича, тогда, я почувствовал это», — подумал я, и уже как доказательство, словно сама собою, всплыла в памяти картина, да она и не могла не вспомниться в такую минуту, как я спешил в ночи к распахнутым новым воротам заведующего райзо; на мгновение я как бы перенесся в то недавнее прошлое и с тем же недоумением, как тогда, там, в залитом лунным светом дворе, вдруг остановился посреди раскрытых настежь ворот, а впереди, возле застекленной веранды, двое мужиков (теперь-то я ясно различал Степана Филимоновича и его сына, бригадира Кузьму) стаскивали с телеги мешок с мукой и вносили по ступенькам на крыльцо, где в кальсонах, белый, как привидение, стоял Андрей Николаевич. «Тьфу, черт!» — мысленно воскликнул я, желая отбросить это воспоминание. Откровенно говоря, мне не хотелось даже теперь, после рассказа Пелагеи Карповны, думать о заведующем райзо плохо. «Степан Моштаков... этот, да, наверняка, конечно! Но Андрей Николаевич-то... как же он мог? Он-то как?» Ни там, тогда, ночью, ни теперь, разумеется, я ведь не ставил перед собой цель разоблачить кого-то или что-то; да и разговор с хозяйкой возник лишь потому, что я видел отношение сельчан к старому Моштакову и видел отношение к нему Пелагеи Карповны; а если хотите, даже с первых дней жизни в Долгушине, правда, я еще не мог тогда объяснить себе, почему, но чувствовал, что Моштаков — это зло деревни, а Пелагея Карповна своим рассказом в этот вечер как бы приоткрыла неожиданно край занавески, за которой таился со своим недобрым делом Степан Филимонович, и оттого — разве я мог не волноваться? Я встал и снова принялся ходить по комнате от топчана к окну (очевидно, тысячи людей делают это же, когда волнуются, и я, конечно, не исключение); я даже не думал уже о Моштакове, так как жизнь его, в общем-то, представлялась ясной, а в какие-то минуты все сосредоточилось на Андрее Николаевиче. Я видел его доброе лицо, слышал его голос, как он говорил: «Ничего, приобщайся, она, брат, хлебная», — и это никак не вязалось с тем, что он, приветливейший и гостеприимнейший человек («Так гостеприимно мог вести себя только тот, у кого на душе светло, чисто, ни пятнышка», — думал я), позволял когда-то тестю увозить с тока неоприходованное колхозное зерно — для каких бы ни было целей! «Да и какой же он туберкулезник?» — тут же восклицал я, опять представляя его розовое, дышащее здоровьем лицо, и мне казалось, хотя, повторяю, было противно думать об Андрее Николаевиче плохо, что и здесь, может быть, не все чисто. Достаток в его доме, на который нельзя было не обратить внимания тогда и который вызывал во мне радостное чувство, сытое круглое лицо Таисьи Степановны, праздничный стол, как он был накрыт и уставлен яствами, — все это тоже как бы виделось сейчас по-иному. «А в городе — хлебные карточки», — говорил я себе, и все то, как я жил до приезда сюда, в Красную До́линку и в Долгушино, простаивая по утрам в очередях у хлебного магазина, как жили еще до сих пор мать, сестренка и братишка, возникало перед глазами; и жизнь Пелагеи Карповны и Наташи, протекавшая у меня на виду, жизнь многих долгушинских колхозников... Я знаю, все не могут одинаково жить, хотя мы и стремимся к этому, не могут уже потому, что неравноценен пока вкладываемый каждым труд, и я бы не стал сейчас делать каких-либо поспешных выводов; может быть, вообще не обратил бы на это особого внимания: но тогда — вот, были такие мысли, и различие жизни казалось, по крайней мере, несправедливостью, а главное, я видел, вернее, чувствовал, что различие это основывалось лишь на нехороших, недобрых, грязных делах. «Есть же мешочники, есть же, в конце концов, спекулянты, которые поставляют на черный рынок муку, торгуют ею из-под полы», — продолжал я, совершенно отходя уже от Моштакова и Андрея Николаевича и как бы охватывая мыслью целое явление, о котором не то чтобы знал понаслышке, но которое, в сущности, разворачивалось на моих глазах и с которым в силу определенных обстоятельств, сами понимаете — война! — я не мог не столкнуться; годы те и теперь памятны мне, а тогда все было особенно свежо в сознании и виделось ясно и живо. «Всю войну поставляли: на обмен, за вещи, за деньги! И поставляли, конечно же, не Пелагеи Карповны». Я ложился на топчан, затем вставал, ходил и снова ложился; во мне поднималось то тихое, спокойное, что ли, возмущение, когда кажется, что ничего недостойного будто и не произошло с тобой, не оскорблено самолюбие, не нанесена обида, и ничто будто не изменится в твоей завтрашней жизни, и вместе с тем есть и обида, и оскорблено самолюбие, и ты недоволен какими-то общими делами, тем, что не все понимают добро, хотя это так просто и всем было бы хорошо и счастливо жить, если бы понимали и следовали этому великому началу, наконец, тем, что есть зло и есть носители зла, и что — есть ли вообще что-либо человеческое у этих носителей зла? Рано ли, поздно ли, но человек не может не мыслить общими категориями; вероятно, это и есть час возмужания, когда ты вдруг осознаешь себя частицею общего, большого организма и движение и развитие общества затрагивают тебя так же, как собственный интерес. За дверью Пелагея Карповна заводила хлеба, и я слышал, как она ходила по комнате, как просеивала над столом муку, хлопая ладонями (справа налево, справа налево) о круглые бока сита; белая занавеска на окне, казалось, шевелилась под порывами ветра, налетавшего на стекла, на всю бревенчатую стену избы, и я на мгновенье приостанавливался, глядя на занавеску, на слегка начинавший мигать желтый язычок лампы и чувствуя, как понизу, будто сквозь щели половиц, просачивается и гуляет по-над полом холодный воздух, потом вдруг все это внешнее словно исчезало, переставало существовать, и не то, чтобы в мыслях, а будто наяву, как это было в сорок втором, в сорок третьем, да и позднее, — маленький, в расклешенной от пояса бекешке и с шапкою в руках, я стою там, в городе, дома, перед столом, на котором лежит завязанный в белую простыню отцовский костюм, смотрю на этот белый узел и жду, что вот-вот, с минуты на минуту, постучит в дверь Владислав Викентьевич, старый, с синими трясущимися губами сосед, и мы пойдем с ним на сенной базар, на толчок, или, как теперь бы назвали его, вещевой рынок, на котором, впрочем, не только продавали и покупали вещи, но было место, и Владислав Викентьевич хорошо знал его, где можно обменять пальто или костюм на муку, крупу, хлеб. Я стою одетый, готовый к выходу, и все, что только что происходило в комнате, еще живет перед глазами: как мать доставала этот костюм из сундука и, отвернувшись, чтобы я не видел, кончиком платка вытирала навернувшиеся слезы, как стряхивала нафталин и расстилала на столе белую простыню, а когда узел был готов, глядя на меня грустными, все еще влажными и слегка покрасневшими глазами, гладила по голове и говорила: «Только на муку, смотри, Владислав Викентьевич поможет. Слушай его. В крайнем случае, на крупу, понял!» И я кивал ей и отвечал: «Да ты не волнуйся, мама, я все сделаю, как надо, ведь я уже взрослый», — а с дивана, притихнув, на время оставив свои полинялые и облезлые кубики, молча таращили на нас глазенки сестра и брат; мать ушла на работу, ее уже не было в комнате, и они смотрели теперь на меня. Я стоял здесь, перед столом, в долгушинской избе, но мне казалось, что я был там, дома, и сейчас, через секунду-две, послышится стук в дверь, я повернусь и пойду открывать Владиславу Викентьевичу; и я действительно как будто слышу и шум шагов под дверью, и затем стук, особенный, негромкий, как умел только Владислав Викентьевич, и так же, как тогда, за настывшими планками двери раздается его привычный голос: