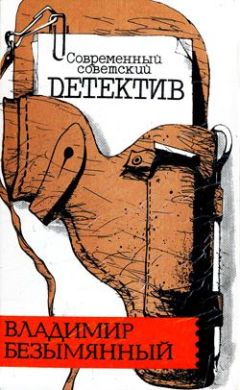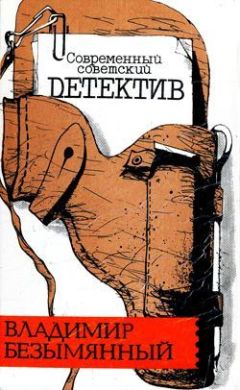Анатолий Ананьев - Версты любви
Все еще растерянный оттого, что увидел (главное же, оттого, что не знал, что надо было делать теперь), я так же, будто воровски, крадучись, вышел из амбара в конюшню. На гвозде, возле косяка, заметил висевший железный замок со вставленным в него ключом. Им, наверное, как раз и запиралась кладовая. Но тогда я не подумал об этом; мне лишь хотелось как можно скорее и незаметнее выскользнуть из конюшни. А происходило здесь до меня, полагаю, вот что: Степан Филимонович со своим сыном, ведь они собирались в Красную До́линку, так сказала Клавдия Васильевна, и поехали бы не с пустыми руками, зашли нагрести зерна и, уходя, не заперли дверь; прошли же они прямо из конюшни в избу через сенцы, минуя двор, и, конечно же, их голоса я и слышал. А почему не заперли дверь? Вероятно, намеревались тут же вернуться. Само собой, я не могу поручиться за точность этой нарисованной картины, как все было на самом деле; да и так ли уж это важно; главное, я открыл тайник, увидел лари, наполненные пшеницей, и весь тот день и следующий они стояли перед глазами. «Ну вот, — говорил я себе, выходя из конюшни на солнечный морозный двор и продолжая оглядываться, — вот оно, моштаковское добро людям!» Я не постучался и не вошел в избу; косясь на занавешенные шторками окна (не следит ли кто за мной?), я медленно, шаг за шагом, отступал к калитке и, как только очутился на улице, чуть пригнувшись, торопливо зашагал к себе домой. Я не раз потом спрашивал себя, для чего нужно было пригибаться и торопиться? Но, видимо, так уж устроен человек, что поступки часто опережают сознание, и оттого мы совершаем массу странных и глупых вещей; но в то же время, если пораскинуть как следует умом, то, пожалуй, боязнь была в какой-то мере обоснованной; если бы, допустим, старый Моштаков с Кузьмой вдруг застали меня, скажем, в кладовой или пусть в конюшне и поняли бы, что тайник раскрыт, — их двое, а я один, — еще неизвестно, как бы все обошлось и чем закончилось. Может быть, подсознательно, но именно этого — встречи с ними — я и боялся тогда и, лишь войдя во двор Пелагеи Карповны, оглянулся на моштаковскую избу. «Теперь что? — вгорячах думал я. — Куда пойти и кому сказать? Пелагее Карповне? Или людей кликнуть? Или, может быть, сперва в Чигирево, к Федору Федоровичу?» О том, чтобы просить лошадь и сани у бригадира, я уже, конечно, не помышлял.
Когда я вошел в комнату, лицо мое было, думаю, испуганным и бледным, потому что я заметил, как Пелагея Карповна, делавшая что-то у печи, на секунду даже будто бы замерла от удивления, глядя на меня.
«Скажите, — между тем, сбрасывая с плеч полушубок, видя непривычный взгляд хозяйки, понимая его и не в силах побороть своего волнения, спросил я, — сколько вы получили на трудодень хлеба?»
«Шесть пудов, центнер, а что? Чего это — лица на вас нет?»
«А где в Долгушине хлебный амбар?»
«Колхозный, что ли? Был, так его еще до войны, как объединялись, разобрали и свезли в Чигирево».
«Это точно?»
«А что случилось, Алексей?»
«Ничего, Пелагея Карповна, ничего не случилось, но — пока ничего. Ничего», — повторял я, уже войдя в свою комнату и закрывая за собою дверь.
За все время, сколько жил у Пелагеи Карповны, я впервые в то утро заметил, что на моей двери есть накидной крючок; опять-таки не совсем соображая, для чего нужно, от кого здесь-то прятаться, запер дверь на крючок и принялся, как делал это уже не раз, но только теперь еще торопливее, ходить от окна к топчану и обратно. Я понимал, что надо успокоиться, что ничего сверхъестественного, собственно, не произошло. «Ну и что, что раскрыл тайник? Рано или поздно, а это должно было случиться, и не я бы, так другой, все равно!..» Но вместе с тем, как я говорил себе это, не только не успокаивался, но, напротив, с еще большей горячностью и ненавистью думал о Моштакове. И у меня были на то основания. «Торгаш несчастный, выжимала, вот у кого отцовские пальто и костюмы! — мысленно выкрикивал я, хотя, конечно, не у него они были, я знал, но непременно у такого же, как он, тихого, властного и бородатого мужичка (в деревне ли, в городе ли, везде они одинаковы; а может, жизнь их делает такими, это ведь тоже может быть? По крайней мере, так я думаю теперь, оглядываясь на все, а тогда много не рассуждал, просто видел в них зло, и зло это казалось мне неестественным и несовместным с общепринятыми понятиями о жизни). — Сколько вас по городам и деревням, своего рода благодетелей народных? Шесть ларей. В каждом по четыре, пять центнеров, не меньше. Пятью шесть — тридцать. Тридцать центнеров, и зерно-то колхозное, общее, государственное, наконец», — продолжал я, поражаясь тому, как же раньше не мог открыть это, а ведь знал, чувствовал и только выжидал чего-то, а чего? У меня было такое ощущение, что я снова, как в детстве, когда отвозил вместе с Владиславом Викентьевичем белые узлы на сенной базар, открытой, обнаженной душой прикоснулся к этому грязному моштаковскому миру, и все время, пока метался по комнате, брезгливое выражение не сходило с лица. Иногда я останавливался у окна и, перегнувшись через стол и отвернув занавеску, смотрел на улицу, стараясь отыскать глазами — а для чего это надо было? — избу и подворье Моштакова, но, ничего не увидев, опять возвращался к топчану и шагал к столу.
Я перебирал мысленно, к кому лучше пойти:
«В сельсовет?»
«К председателю колхоза?»
«К участковому?»
«К Федору Федоровичу?»
Но все они находились в Чигиреве, и прежде надо было еще добраться туда. «По снегу, по ненакатанной еще дороге, одному, пешком!» Однако ничего другого, кроме как только идти пешком в Чигирево, придумать не мог и потому на глазах у изумленной и обеспокоенной Пелагеи Карповны, ничего не говоря и не объясняя ей, торопливо оделся и вышел из дому. Вслед за мною, когда я был уже за жердевыми воротами, появились на крыльце Пелагея Карповна в накинутом на голову и плечи темном платке и Наташа; дочь, как всегда, выглядывала из-за спины и из-под руки матери, и было тоже что-то взволнованное и испуганное в ее смотревших по-взрослому глазах; я помню это выражение, потому что, обернувшись, посмотрел прежде на нее, а потом на мать.
До Чигирева я добрался под вечер.
Во дворе сортоиспытательного участка было заснеженно и пустынно; тусклыми желтоватыми пятнами светились в раннем и синем зимнем сумраке окна жилой, начальниковой, как здесь называли ее, избы.
В полурасстегнутом полушубке, разгоряченный от ходьбы и заиндевелый с мороза, едва постучавшись, можно сказать, я не вошел, а прямо-таки ввалился в комнату к Федору Федоровичу; на валенках, наскоро и плохо обметенных на крыльце, был снег.
«Что, вьюжит в поле?» — спросил Федор Федорович, окидывая меня взглядом.
«Нет», — ответил я и даже, по-моему, не словом, не голосом, а покачиванием головы.
«Привез?» — снова спросил Федор Федорович.
«Нет».
«О-о, да ты взволнован! Что такое приключилось?»
«Сейчас расскажу», — сказал я, снимая полушубок и направляясь к вешалке.
В доме Федора Федоровича, может быть, потому, что и сам хозяин, и жена его, Дарья, действительно-таки были людьми добрыми и гостеприимными, а может, просто потому, что все еще надеялись выдать одну из дочерей за меня и оттого радовались каждому моему приезду, непременно усаживали за стол, и Федор Федорович по случаю, как он любил говорить, доставал графинчик с водочкой и рюмки, я не чувствовал себя стесненно; когда дочерей не бывало дома и мы с Федором Федоровичем оставались одни (Дарья обычно не вмешивалась в разговор, она вышивала, сидя здесь же, на стуле, только время от времени вскидывая на нас голову), я даже, казалось, отдыхал, слушая, может быть, для кого-нибудь и скучные, но мне представлявшиеся удивительными и интересными рассказы старого агронома, и оттого теперь, едва вошел в комнату, как меня сразу же словно обдало всей этой атмосферой тепла и уюта. Видя доброе лицо Федора Федоровича — он стоял так, что керосиновая лампа, горевшая на столе, была за его спиною, но на затененном лице все же легко можно было различить то отечески-покровительственное выражение: и в сдвинутых к переносице густых старческих бровях, и во взгляде, который всегда действовал на меня особенно располагающе и который сейчас словно говорил: «Я тоже обеспокоен твоим волнением, но поверь моему опыту, все будет хорошо, я рассею любые сгустившиеся над тобой тучи», — видя именно это выражение на лице Федора Федоровича и видя добрые и по-своему удивленные и обеспокоенные глаза Дарьи, которая, встав со стула, но продолжая, уже машинально, поблескивать иголкой в свете лампы, вдруг даже будто с растерянностью (разумеется, для нее важно было свое!) сказала: «Как же, Алеша, Федя, а девочки наши в кино ушли», — как ни был я взволнован и как ни хотелось поскорее рассказать Федору Федоровичу обо всем, что кипело во мне, но при виде этих знакомых добрых лиц, знакомой обстановки комнаты со столом посередине, накрытым расшитой светлой скатертью, с комодом в простенке между окнами и зеркалом и семейной фотографией в рамке над ним и, главное, со старым, с продавленными металлическими пружинами диваном, на который как раз обычно и усаживали меня приветливые хозяева, я как бы начал оттаивать душой, чувствуя, как всегда, расположение к ним, и думал: «Хорошо, что пришел именно сюда, они поймут. Это надо же — шесть ларей!» Федор Федорович между тем терпеливо ждал, пока я повешу полушубок; и Дарья, продолжая вышивать, стояла тут же и смотрела на меня.