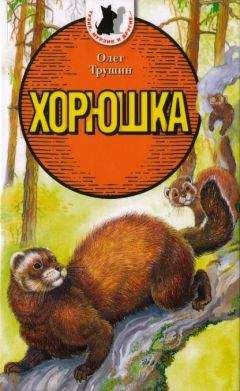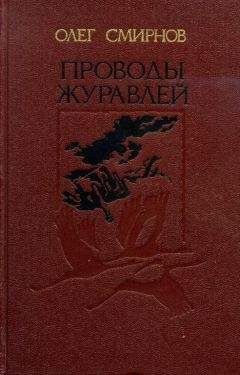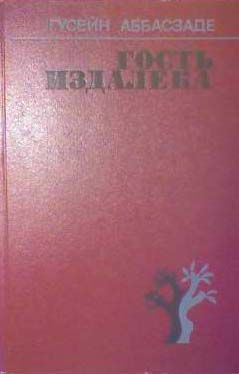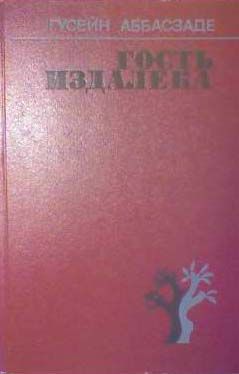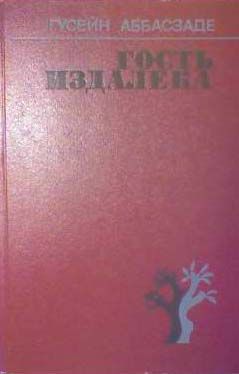Олег Шестинский - Блокадные новеллы
Летние белые сумерки на Ладоге чудесны до изумления. Сине-серая гладь озер еще хранит в себе последние алые краски заката. Вороны, устремляясь ночевать на острова, кричат так пронзительно и мечутся так остервенело, словно на них совершено покушение. Ветви деревьев четко вырисовываются на фоне светлого неба, и каждая ветка напоминает собой какой-то предмет: крепость или птицу, саблю или человека… Смотришь на ветви и будто волшебную повесть читаешь о жизни людей.
В такую пору иногда приезжал ко мне Василий на мотоцикле. Влажно шуршали росистые травы, осыпались лепестки с расцветших бутонов, а Василий шел среди кустарника в сияющем белизной мотоциклетном шлеме, напоминая в зыбком прозрачном воздухе пришельца из космоса. Он вскидывал голову, замечал меня в проеме окна и выпаливал:
— Привет!
— Здорово, — отвечал я и сбегал по лестнице.
Он снимал шлем и, близоруко щуря глаза, вновь становился простым и милым парнем.
Однажды, когда он освободился от шлема, я полуобнял его и сказал:
— Когда ты снимаешь шлем, я думаю, что от космоса до Земли один шаг.
Он протянул:
— От жизни до смерти тоже один…
* * *Василий, как истинный художник, был легкоранимым, а также большим фантазером. Он порою придумывал себе иллюзорный мир, в котором поступал так, как ему хотелось, и думал так, как ему приходило на ум.
Как-то приехал я с делегацией французских писателей в Ленинград, и Василий принимал их у себя дома.
— Не скажете ли вы нам, месье Базиль, как вы стали писателем? — любезно спросила француженка.
— Скажу, — решительно ответил Василии. — Начинал я со стихов. Но народ не заинтересовался глубоко моей поэзией. Тогда я стал писать прозу. Она пришла своим путем к народу…
Он замахивался в искусстве на многое, и для него самого было естественным видеть себя в жизни могучим, сильным, основополагающим.
…Побывали мы с ним в Мексике. В один день наши друзья пригласили нас в музей инкского творчества: древние маски, ритуальные человеческие черепа из камня, живопись, пламенная, многоцветная, страстная… Это было увлекательное путешествие в прошлое великого народа. И вдруг я услышал голос Василия:
— Интересно, очень интересно… Но почему нет копий античных скульптур? Почему? Кстати, я мог бы содействовать приобретению копий античности вашим музеем… Да, да, — мельком бросил он взгляд на меня, уже не в силах остановиться, — у меня есть знакомый академик, он сможет содействовать покупке… Нужен только корабль для перевозки…
Волосы на голове у меня слегка зашевелились.
— Вася, — сказал я с подобием улыбки на лице, предназначенной для наших друзей, — это ведь вопросы компетенции Министерства культуры.
— Разумеется, — смерил он меня взглядом, — мы подключим и культурные инстанции наших стран.
…Наши друзья были им очарованы.
* * *Были в моей жизни дни, когда нахлынуло мне в душу какое-то суматошное, все смывающее на своем пути чувство. Оно ворвалось негаданно, а потому казалось непонятным. Какому же русскому человеку не нужно излить душу в такие мгновения!
Я отправился в Васину деревню Ольховку, застал его дома и чуть ли не с порога начал:
— Послушай, Вася, я…
Он слушал меня, чуть склонив набок свою характерную — по-суворовски, с хохолком — голову, а потом высказал странное для меня желание:
— Пойдем к берегу, по дороге и доскажешь…
Мы вышли и стали спускаться по желтой песчаной дороге, усеянной по обочинам треснувшими валунами. Рожь, молодая, нежно-зеленая, поднималась справа и слева, стремительные ласточки своим полетом, как ножами, разрезали воздух. И я почувствовал, что перед огромностью живой к трепетной природы, окружавшей нас, мне стало труднее высказываться о том, что мне еще минуту назад представлялось самым существенным. Словно мои слова и мое возникшее чувство проверялись на цвет, на вкус, на истинность всем тем, что существует в мире вечно и непреложно. Я продолжал говорить, но внутренне задумывался, не понимая своего душевного смущения.
Берег порос ольхой, болотной сочной травой, среди песка проглядывали черные змейки ручейков… Дальше широко разливалось озеро, а за ним — сплошной массив зеленого леса, над которым плотно и необозримо синело небо.
Я замолчал, и мы оба, вскинув головы, посмотрели вдаль.
— Знаешь, а я там, — он махнул рукой вперед, — учительствовал восемь лет.
И этот внезапный оборот разговора, словно Василий и не слышал моих слов, удивил меня. Снова взглянул на него, его лицо ничего не выражало. И мне зримо почудился за темным и густым лесом неведомый озерный, сказочный край, откуда пришел Василий и где он пестовал души малых ребят, отправляя их в большой и сложный человеческий мир. И не учеником ли его был я в этот час, которого он насквозь видел и сурово жалел?
— То, что ты говоришь, — прекрасно. Людей нужно больше любить. А любишь ли ты? — голос его был будничным.
Позже я рассуждал: зачем он повел меня из дома к берегу? Уж не с той ли таинственной мыслью, чтобы на ветру могучего пространства земли отшелушилась полова от зерен моей речи и речь моя предстала бы в своей сущей наготе для ее постижения.
А потом, когда этот вихрь пролетел, не сокруша меня, я вспомнил косогор, молодую рожь, озеро, леса за ним и ту человеческую проницательность Василия, которую я осознал гораздо позже, совсем поздно…
* * *Он стремительно рос как писатель в последние годы. Его роман «Искупление» о Куликовской битве привлек широкое внимание читателей.
…Он позвонил из Ленинграда сразу после публикации романа в журнале «Наш современник».
— Говорят ли что? — спросил.
Я в этот день беседовал о романе с Анатолием Ананьевым, который высоко оценил его. Передал Василию свою беседу. Он помолчал в трубку, сказал весело:
— Мы еще удивим мир!..
Не успел. Мог бы, да не успел…
* * *Последний раз я видел его на почте в поселке Сосново. Он приехал на машине, на той дьявольской машине, которая принесла ему смерть.
Он был необычайно оживлен.
— Знаешь, у меня внук родился. Дед я! — хохотнул. — Вот поздравительную телеграмму посылаю.
— Поехали ко мне чай пить — позвал я.
Светилось на столе в вазочках варенье, клубничное, смородиновое, черноплодной рябины. От чашек с густым чаем шел парок. Вели незначащий разговор, договаривались встретиться основательно, поговорить по душам. Как жестоко-несправедливо в жизни, что из дня насущного ничего не видишь впереди! Что не смог я его в своей слепоте спасти, как когда-то мы с ним спасли человека!
Провожал я его. Прошли мы с ним по дорожке между разросшимися кустами шиповника и диких роз. Он жадно вдохнул свежий и пряный от запаха цветов воздух.
— На сто лет теперь хватит! Больше хоть и не дыши! — засмеялся.
Возле калитки я отогнул нависшую ветвь акации, чтобы она не задела его.
А потом фыркнула машина, обдавая газом, и он умчался за леса, за горы, за непробиваемую пелену дождя…
* * *В моем доме висит картина, которую он мне подарил: осенняя, северная даль; порыжевшие ветви берез, речушка в мшистой оправе, гладь воды в желтых бликах листьев, пасмурное серо-синее небо и проглядывающаяся за этим пейзажем пустота пространства… Я иногда пристально и подолгу вглядываюсь в картину, и в полусумраке комнаты мне мыслится — а вдруг выйдет сейчас он сам откуда-то из заречной темноты, где он корда-то жил и где учил в школе ребят.
Из оятского дневника
Зима
Всю жизнь я прожил в городе. И когда приходила зима, я сразу видел выпавший во дворе снег и светло-серые небеса над головой, видел зиму всю сразу в ее пышном виде.
Нынешний год я провел в деревне.
…Еще вчера листья были влажными, бурыми, а наутро побелели и стали скользкими. Тонкие пластинки льда легли на траву, и трава замерзла, застекленная, как в музее. Зернами рассыпались по земле снежинки — и оставшиеся зимние птицы удивлены, встревожены, оживленно переговариваются, поглядывают на белое зерно — вот-вот начнут клевать…
Когда я приезжаю ненадолго в город, товарищи спрашивают меня:
— Ну как? Что интересного видел?
Я говорю:
— Много чего. Вот, например, видел, как зима начинается.
Они улыбаются: мол, чудишь. Как им объяснить, что я стал богаче, потому что увидел рождение одного из таинств природы и зима мне теперь ясна с самого начала.
Колька-рыжий
Я поселился в доме на берегу Ояти. Комната была удобная, но непригодная для зимы, и школьники пришли ее утеплять. Они шпаклевали окна, обивали дверь, таскали мусор… И все время, словно невзначай, приглядывались ко мне. И вдруг остроносый Лешка Антонов сказал: