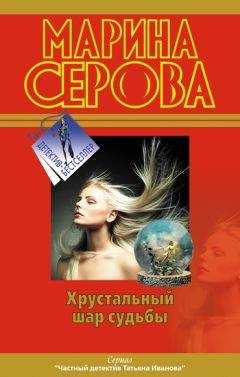Николай Иванов - Разговор с незнакомкой
Может быть, в этой истории я упустил какие-то штрихи или за прошествием времени что-то передано с недостаточной степенью достоверности. Я думаю, когда-нибудь об этих эпизодах напишет и режиссер, прекрасный человек, большой, тонкий художник, напишут и актеры. Мне лишь хотелось еще раз напомнить о неистовой, пронзительной силе искусства, использовать которую мы обязаны разумно и достойно.
БЕНЕФИС
Теплоход плавно скользил по стремнине, ровно и гулко постукивали в чреве его двигатели. Дмитрий Арсеньевич, прислушиваясь к их шуму, тихо поглаживал под пиджаком левую сторону груди. Он стоял на корме, облокотившись о перила. Лицо омывал ледяной утренний ветерок. За бортом, в сотне метров водяной глади, убегал назад зеленый, поросший осокой берег. Только что вставшее солнце косыми острыми лучами скользило по воде. Обитатели судна еще спали.
Бесшумно ступая по стылому металлу палубы, Дмитрий Арсеньевич дошел до окна своей каюты, осторожно подвинул штору, взял со стола сигареты.
«Еще два-три дня на плаву, и Волге конец, — подумал он, разминая пальцами длинную тонкую сигарету. — И назад можно будет поворачивать, теперь уже вспять, вверх по матушке».
Дмитрий Арсеньевич был не из тех стариков, что маются бессонницей. Но сейчас ему не спалось…
Половина России проплыла за бортом теплохода за неделю, десятки больших и малых городов. И все они были как-то связаны с его судьбой, везде он побывал за свою долгую сценическую жизнь — где на гастролях, а где и просто довелось пожить, работая «на театре» по два-три сезона и более.
Теперь Дмитрий Арсеньевич на пенсии. Уже несколько лет, как он оставил сцену и вел большую самодеятельную драмстудию в одном из московских вузов. О путешествии по Волге мечтал он давно. Но наступало лето, приносило новые заботы, и поездка откладывалась. А тут проснулся однажды — точно чей-то голос разбудил его: «Поздно будет, старик, торопись, не успеешь…»
Дмитрий Арсеньевич был доволен жизнью, которую прожил, и считал, что с беспокойными, жаркими днями в ней пронеслось немало интересного. Об этих днях он исподволь рассказывал студентам во время работы над спектаклями. Рассказывал бережно, по крупицам, заново переживая все. Дмитрий Арсеньевич не дослужился до званий и титулов и описывать свою жизнь в книгах считал не вправе, но все-таки ему было жаль, если о ней совсем никто не узнает. И ему льстило, что его, ровесника двадцатого века, с неподдельным вниманием слушает молодежь. Он читал в глазах своих питомцев желание и стремление узнать как можно больше о нем и о времени, в которое он творил. И он понял, что это путешествие — не только для него…
О городах, мимо которых довелось проплыть ему, уже рассказано-перерассказано. Не рассказано лишь об одном… Скоро, часа через два, этот город появится, выплывет из-за мыса, из-за пролетов широченного моста, не так давно перепоясавшего здесь матушку-Волгу.
В этом городе для Дмитрия Арсеньевича все начиналось. И странно, что он решил рассказать о нем в последнюю очередь. Впрочем, нет… так и должно быть. Прежде он еще раз переживет все, что связано с этим городом, наедине с собой.
«С какого же дня начать? — думал Дмитрий Арсеньевич. — С какого момента…»
…Порыв теплого апрельского ветра взбудоражил перманент высокого худого приказчика, манекеном скучающего у витрины посудной лавки, переметнулся к дворнику, выметающему из подворотни мусор, потеребив его фартук, бодро зашелестел на перекрестковой тумбе старыми афишами.
Рядом с программой Великого Немого примостилась свежая пестрая афишка, повествующая о том, что «в пятницу, 27 апреля в Народном театре в городском саду в бенефис П. И. Сорокина представлено будет: «Без вины виноватые», комедия в 4-х действиях А. Н. Островского».
Возле нее-то и задержались два господина. Прищурившись от яркого солнца, они рассматривали текст. Тот, что постарше, поджарый, стройный, с чуть грустным выражением больших синих глаз, держал руку на плече своего спутника, что-то говоря ему на ухо. Снизу вверх на него влюбленно смотрели ясные мальчишеские глаза. Голову юноша держал высоко, и осанкой своей и длинно отпущенными вьющимися волосами, видно, стремясь напустить на себя побольше мужественности.
— За целую неделю вывесили, — говорит он, пробуя пальцем типографскую краску. — Видно, хорош сбор будет, Федор Григорич…
— Не загадывай, Митя, — примета дурная… Давай-ка двинем с тобой к Волге, пожалуй. Что глазеть-то…
И они пошли по узенькой улочке, по булыжной мощенке, смешавшись с гурьбой людей, торопящихся к всенощной. Оба они были в подержанных, но тщательно вычищенных и отутюженных сюртуках, в блестящих штиблетах.
Миновав собор, вдоль решеток прибрежного сквера они спустились к Волге. Присели на трухлявом бревне возле самой воды. Бурая волна, набегая, стучала о перевернутые лодки, выбрасывала к ногам мокрые щепки и кору. Хрипло мычал причаливавший пароходишко, перекликаясь с монотонно и гулко зовущим к церковной службе колоколом.
— А что, Митя, не выпить ли нам малость, а? Возьмем грех на душу! Что-то муторно нынче, пошли, брат…
Митя молчит, вышагивает следом.
— В трактир-то не хочется — людно. А мы в лавке возьмем, да где-нибудь… на бережку!
Потом они долго идут берегом, выбирая место поукромнее. На пути — высокий утес, взобраться на который можно лишь узкой извилистой тропинкой. Они сворачивают на тропу.
Сверху просматривается весь город. Песчаная коса, широкая излучина реки с одиночными лодками рыбаков, переправляющихся на острова, пестрые пирамидки бакенов. Новорожденная густо-зеленая трава возле самого обрыва, где они присели, пахнет влагой и свежестью.
Митя видит, как наполняется стакан, как Федор просто, в два глотка выпивает вино и затем, выдохнув, наполняет стакан снова и протягивает ему. Приняв стакан, Митя отпивает немного и, отставляя его в сторону, задумчиво смотрит вниз, где, прямо под ними, тесно прижавшись друг к другу, ютились крохотные дома-скворечни, иные из них покосились от осевшей почвы, но стояли еще крепко, точно надеясь на подставленные плечи своих соседей.
— Эх, Митя, Митя… — вздыхает Федор, покусывая травинку, и смотрит в небо. Там острым пунктирным клином плывут птицы.
— Вчера в антракте Грошев мне мимоходом репличку бросил. Под Пашу, говорит, Сорокина изволите-с работать, Федор Григорьевич. Похоже, похоже… А у самого ухмылка на роже, мол, шутим мы, конечно, но и не забывайте, что в шутках бывает правда… Много я насмотрелся чего, Митюха, у разных антрепренеров. И ругали меня, и по целому сезону без копейки сидел, бывало — и хвалили, в прошлом сезоне, помню, Агапов со слезами отпускал. Но такого слышать не доводилось…
От слов Федора больно щемит Митино сердце. Он думает об их нелегкой доле. Об антрепренере Грошеве, к которому судьба привела Митю год назад прямо из стен гимназии и который, «попробовав» его на монологах, решил взять в труппу, положив копеечное жалованье. Страсть к театру заставляла Митю мириться с превратностями. Надо сказать, материальное положение его было более-менее терпимым. На противоположном берегу Волги, в небольшом уездном городе, жила его тетка, которая была одинока и не чаяла в нем души, как в собственном сыне. У нее Митя и воспитывался, рано потеряв родителей. Тетка имела небольшое хозяйство и охотно помогала ему в годы учебы, да и теперь по-матерински поддерживала его.
В театре к Мите отнеслись по-разному: кто подозрительно, некоторые с откровенной иронией, иные — сочувственно. А он сразу же привязался к актеру Федору Зореву, первым протянувшему ему руку.
Митя не вдруг поверил, осознал это чудо: Федор Зорев, игрой которого он мог лишь восхищаться с галерки, так просто, так тепло отнесся к нему. И ответил Федору преданной, братской любовью. Зорева же подкупили непосредственность, чистота способного юноши, и он стал опекать Митю, оберегая его от недобрых шуток своих грубоватых собратьев.
Они часто уединялись, уезжали в дачные пригороды, уходили к Волге. Федор хорошо рисовал. Часто, затаившись позади, Митя наблюдал из-за его плеча, как рождались на холсте волжские пейзажи, плесы, кряжистые фигуры рыбаков. Мастерски владел Федор и гримом и порой, искусно положив на лицо Мити необходимые штрихи, репетировал с ним Сатина, Хлестакова, а то и Гамлета.
Мите было больно за Федора. Он понимал, что приходится тому расплачиваться за правду, за прямоту свою и неподкупность. Хитрый и жестокий хозяин их Грошев, привыкший к молчаливой покорности «своего актера», — он так и выражался: «мой актер танцуй под мою музыку», — давно понял, что в Зореве ему не найти опоры, и не мог примириться с его самолюбием, независимостью, хотя и понимал, что Зорев — актер не средней руки. Часто, как умел, он старался ущемить Федора. Были у Грошева и любимцы. Например, Сорокин, чей бенефис ожидался через неделю, — актер несомненно большого таланта, щедро наделенный природой и внешними данными и здоровьем. Понимая это, он был капризен, груб, перепив, в открытую унижал товарищей, артачился по любому поводу, помня, конечно, о том, что горой за него стоит Грошев.