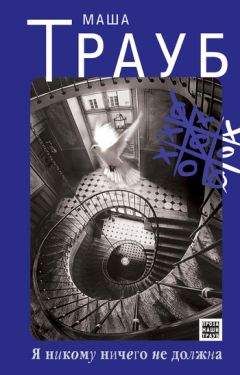Елена Серебровская - Весенний шум
Он много знал, но как собеседник был чем-то неприятен. То ли заискивающая улыбка, спрятанная в припухших глазах, то ли что-то другое делали его определенно неприятным.
Он снова повторил свое предложение — познакомить Машу с политэмигрантом, очень интересным человеком. Он предложил это и Гене.
— Конечно, интересно, — мы воспитаны на Интернационале, как-никак, — сказал Геня. — Но сейчас не выйдет. Вы были когда-нибудь студентом? Да? Ну, тогда вы поймете нас. У нас скоро весенняя сессия. А мы с ней, — он кивнул на Машу, — отчаянные люди: мы еще ходим на лекции, не предусмотренные в программе.
Они расстались.
Маша не могла не задуматься над этой встречей, над рассказом этого длинноволосого поэта. Вот мечтатель! Сердце у него все же хорошее — так переживает за Испанию! Сам пошел в управление…
Однажды Маша бродила после лекций с Лидой по Университетской набережной. Стоял зимний молочный туман и казалось, что за набережной ничего нет, там край света, там все обрывается — туман закрывал противоположный берег реки, и даже Исаакий не угадывался в белой бесплотности.
Говорили о жизни. Говорили о книгах. А минутами — не говорили ни о чем, просто молчали, глядя в молочную пустоту за гранитным барьером набережной.
Впереди развинченной, ленивой походкой шел человек в зимнем пальто-куртке, в теплой кепке спортивного типа. Гриневский? Маша хотела окликнуть его, но в эту минуту Гриневский подошел к тому месту набережной, где устроен покатый спуск к Неве. Он взглянул вниз неохотно, словно ему уже надоело, словно он смотрел туда сотый раз. Внизу была тропка, пролегавшая по засыпанному снегом льду.
Лида продолжала идти, но Маша тихо сжала ее руку: «Погоди!» — шепнула она, и обе остановились.
Из молочной мглы выступила какая-то фигура. В этом не было ничего удивительного, зимой многие сокращали путь, пересекая застывшую Неву по узким тропинкам.
Гриневский тотчас спустился вниз. Он подошел к выступившей из мглы фигуре в черном пальто, взял у нее из рук белый сверток и двинулся по тропке через Неву.
Человек в черном пальто, передавший Гриневскому сверток, исподлобья взглянул на Машу и Лиду, поднялся наверх и пошел по Менделеевской линии.
— Как таинственно: ни словом не обмолвились! — сказала Маша Лиде, приходя в себя.
— Ты тоже видела: он передал тому, в куртке, белый сверток? И ничего не сказал.
— Я же знаю того, который взял: это Гриневский, поэт, — торопливо сказала Маша. Хочешь, пойдем за ним, заговорим, спросим?
— Пойдем!
Но прежде чем сделать шаг, Лида оглянулась на Менделеевскую линию: человек в черном пальто остановился у стенда со свежей газетой и читал ее. Туман мешал рассмотреть его, но было заметно, как он быстро повернул голову к набережной, а потом снова уставился в газету.
— Нельзя, — сказала Лида, хватая за руку Машу, уже спускавшуюся вниз. — Нельзя идти следом, тот, видишь, наблюдает. Он может спуститься за нами, а там, на середине Невы, в тумане что хочешь можно сделать. И никто не узнает.
Машу пробрал озноб. Что все это значит? Кто этот Гриневский? Любой человек может передать другому пакет, тетрадь, что угодно, но при этом он поговорит, что-нибудь скажет, задержится хоть на минуту. Гриневский не хотел задерживаться. Кто он такой?
— Идем по набережной дальше, — сказала Лида, и они пошли, пошли той же ровной походкой.
Волнуясь и спеша, Маша рассказала Лиде про Гриневского.
— Не может быть, чтобы он был какой-нибудь враг, — закончила она. — Тогда бы он сам не полез в пекло, — а этот ходил в управление милиции, просил послать его в интернациональную бригаду…
— Откуда ты знаешь, что он ходил?
— Он сам рассказывал.
— Рассказывал — еще не значит, что ходил. Может, он просто хотел узнать, нет ли в университете организации, которая оказывает помощь революционной Испании. Он же понимал, что студенты не побегут проверять его слова, да никто им и не скажет, если бы побежали.
— А на самом деле можно проверить? — спросила Маша.
— Не только можно. Обязательно нужно. А идти за ним по Неве… Год назад у отца пропал один сослуживец. Пропал без вести, нигде никаких следов. Летом выловили тело возле моста лейтенанта Шмидта, опознали. Дело было в морозы, не сам же он полез в полынью. Шел с дежурства, абсолютно трезвый. И кошелек с деньгами оказался в кармане, цел. Он всегда сокращал путь, говорил: «мосты — сооружение летнее…»
— Жутко! Неужели и нас кто-нибудь мог…
Лида ласково сжала Машин локоть:
— Цела, и не волнуйся. Эх ты, интеллигентка, побледнела даже. Жизнь — штука, весьма суровая. Ведь не выдуманы же враги, они существуют на самом деле.
* * *— Машка! Кажется, мне сильно понравился один парень, — сказала ей Лида однажды. — Но только об этом никто, никто не знает. Это величайшая тайна.
— Конечно, тайна, если ты так хочешь. Он кто?
— Он тоже студент. Из юридического института. Конечно, человек он необыкновенный и незаурядный, но у него есть маленький недостаток…
— Какой?
— Он очень красивый, Маша. И мне кажется, что он знает о том впечатлении, какое способен произвести на девушек.
— Красивые большей частью дураки, — разочарованно сказала Маша. — Я не о нем, а вообще. Я тоже знала красивого, и не дурака, но, по-моему, красота часто приводит к самодовольству. Он нравится — и вот уже одной заботой меньше, человек доволен и воображает себя лучше других… До чего я не люблю самодовольных, ужас! А девушка если красивая, так непременно дуреха за очень редким исключением.
— Ты что же, себя считаешь дурнушкой?
— А то красавица? Я просто обыкновенная.
— Он, к сожалению, не дурак, — сказала Лида, мечтательно разглаживая рукой скатерть. — Он большая умница. У него, знаешь, такие светлые волнистые волосы, очень приятные, льняные… Мне почему-то очень хочется тихонько потаскать его за волосы, так, не больно… И собой он статный такой. Что-то независимое есть у него в осанке. Какое-то сознание превосходства даже…
— Ну вот, я так и знала. Сознание превосходства — это первый признак недалекого ума, всегда связанный с необыкновенными качествами, например красотой…
— Нет, дело не в том! — махнула рукой Лида. — Я не сказала тебе одной важной подробности… Но это лучше не говорить. Я понимаю, почему он держится так гордо. И ты, когда увидишь его, тоже поймешь… Я не хочу говорить, ты увидишь сама…
— Что увижу? — недоумевала Маша.
— Увидишь причину всего. Мне кажется, он мне не просто нравится. И мне так страшно: что, если он не чувствует того же? Мы видимся часто, но я ни в чем не уверена. Он, наверное, нравится многим.
Она даже слова «любовь» избегала и больше ничего не захотела рассказывать. Ей не терпелось узнать, какое впечатление произведет он на Машу. Условились увидеться в субботу, снова здесь же, у Лиды.
«Сдержанная она, ничего не рассказала. Я бы все-все выболтала подруге, — думала Маша. — А она о каких-то эффектах заботится, одно рассказала, другое нет. Наверное, так и надо. Наверно, так и поступают люди разумные, рассудительные…»
Когда в субботу она сняла пальто в передней квартиры Медведевых и, поправляя платье, сделала шаг в комнату, — первое, что она увидела, была странная помятая сумка-портфельчик, лежавшая в прихожей на столике. Из сумки торчала круглая полированная деревяшка.
В комнате у входа в Лидин уголок стоял молодой человек в темно-синем пиджаке, то и дело резким встряхиванием головы откидывавший назад прядь волнистых светлых волос. Он стоял, некрасиво опустив руки по сторонам.
— Знакомьтесь: Маша, Иван! — сказала Лида, показав одному на другого.
Маша шагнула вперед, собираясь протянуть Ивану руку, но на полушаге остановилась. Только сейчас она заметила, что обшлага его пиджака пустые.
Так вот о чем не могла сказать Лида! Это жестоко все-таки, подвергать подругу такому испытанию. Больше всего Машу встревожила мысль о том, что Иван заметил ее желание протянуть ему руку, и затем — невольное замешательство. Заметил и почувствовал боль, вспомнив о своем увечье.