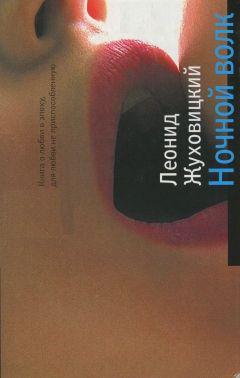Леонид Жуховицкий - Остановиться, оглянуться…
Все это мало походило на мысли, да и сам я мало походил на себя.
Я слез с подоконника, сел за стол и опустил плечи.
Я вдруг резко почувствовал, что устал. Не сам — голова устала. Она была вялой, рыхлой, туповатой — голова заезженного газетного работника, способного в день выдать на–гора сто строк материала, из которого секретариат со скрипом оставит тридцать. Голова человека, серого, как газетный лист.
Прежде я такого не испытывал.
Усталость — это бывало. Бывало, что, придя с дежурства, я валился на кровать, уже в полусне сковыривая ботинки один о другой. Бывало и желание отдохнуть, когда однажды два года не был в отпуске, — отдохнуть, где угодно и как угодно, хоть в доме отдыха с плакатом «Добро пожаловать!», компотом из сухофруктов, истерзанным бильярдом и уж конечно массовиком. И это бывало…
Но всегда в мозгу оставалась какая–то заначка, последний запас, неразменный серебряный рубль. И если надо, даже в этот, самый усталый момент я бы мог взять себя в руки и опять работать на полную еще неделю, месяц, может, год… И год бы, наверное, мог.
А теперь мозг был дряблый, как пустой кошелек. И я даже не знал, где и когда разменял свой серебряный рубль…
Я все–таки попробовал извлечь выгоду и из этого своего бездарного состояния — попытался понять, что чувствуют бездарности.
Неужели вот такую вялую усталость, физическую неспособность напрячь мозг?..
Или они воспринимают это как нормальное состояние?..
А может, нервничают, тужатся, давят на мозг, как бедняга шофер из самых своих последних жмет на акселератор старенького слабосильного грузовичка, хитрит, мудрит, исходит потом и руганью. Опоздаешь, бедняга, все равно опоздаешь — если твой мерин дает в час сорок километров, дави не дави, а не выдавишь из него сто…
Раньше я был жесток к бездарностям: не можешь — уходи из газеты! Но я ни разу не подумал: а куда?
Уходи из газеты, а из науки — тоже уходи, а из искусства — тем более, а в технику и не суйся, а к медицине тебя и близко подпускать нельзя, а кибернетика — куда тебе с твоими куриными мозгами!
Уходи, уходи в темпе, катись, куда хочешь, — только не в педагогику, там и без тебя хватает, только не в военное училище, не в геологию, не в биологию…
Зашел Женька, и я его спросил:
— Слушай, что делать бездарности на творческой работе?
Он сказал не удивляясь:
— Уходить.
При этом он улыбнулся.
У Женьки был один крупный недостаток: у него не было чувства юмора. Поэтому время от времени он улыбался просто так, на всякий случай, как светофор–мигалка на тихом перекрестке периодически зажигает желтый свет.
Я спросил:
— А куда уходить?
Он пожал плечами:
— Мало ли куда…
— Ты думаешь, на свете есть место, где их встретят с радостью?
Женька задумался и серьезно сказал:
— Пожалуй, лет через пятьдесят это станет важнейшей проблемой человечества… А почему ты спросил?
Я ответил:
— Просто так…
Потом мы обменялись новостями, и я рассказал ему, что было у редактора, и передал, стараясь поточней, аргументы Одинцова.
— Да, — сказал Женька. — В этом, конечно, есть свой резон… Хотя с другой стороны…
Тут он замолчал и молчал долго, как я тогда в кабинете у редактора, и, в конце концов, нашел лишь тот же самый единственный аргумент: больные не могут ждать.
— Ну, а у тебя что? — спросил я его, и Женька рассказал, кто, где и когда собирается ставить вопрос. Время в его рассказе измерялось неделями.
Я позвал его обедать, но он сказал, что уже ел, и я один поднялся на этаж выше, в столовую.
Я взял первое, второе и третье — не потому, что был голоден, а чтобы по крайней мере до вечера не вспоминать о еде. Потом я выпил две чашки кофе и, выйдя в коридор, курил, пока в голове не стало ясно и холодновато. Может, и не слишком ясно — но, по крайней мере, я кое–что начал соображать.
Я бегло, не вдаваясь в подробности, перелистал в памяти последние дни, и мне стало стыдно, потому что я вел себя, как дурак. Я вел себя, как боксер–новичок, который, получив раз в челюсть, слепо лезет вперед, чтобы сразу же отыграться… Стой, дурак. Оглядись, соберись, у тебя еще есть время. Бокс — это работа, а не истерика, и очки отыгрывают не нахрапом…
Я сказал себе: старик, стоп. Давай–ка спокойно. Давай–ка посмотрим для начала, в чем Одинцов прав…
Но спокойно думать, стоя в коридоре, было нелегко — народу кругом толкалось до черта, и каждый третий был приятель. Тогда я вернулся в столовую, взял еще чашку кофе и сел за самый непопулярный столик — в центре зала…
Одинцов был прав во многом.
Давать опровержение действительно было нелепо. Что в нем написать? «Препарат ошибочно назван сомнительным»? Ну, а если через месяц–два вдруг выяснится, что выздоровление женщины и в самом деле случайность? Давать еще одно опровержение, опровергающее предыдущее?
… Я так и подумал про себя — «женщины». Растерянная девчонка, перед лицом страшной угрозы с бездумной женской мудростью стремившаяся почувствовать на щеке мужскую ладонь, осталась там, в больнице, в зубоврачебном кабинете на третьем этаже. С той, что радостно выбежала из приемного покоя и, наверное, бросилась на шею сперва матери, а потом уж парню с букетом цветов, я знаком не был…
Я допил кофе и стал сворачивать в трубочку обертку из–под сахара.
Ладно, сказал я себе, бог с ним, с Одинцовым. Если взять само дело, голую суть. Что, собственно, произошло?
Итак: двое ученых, два крупнейших в Союзе специалиста придерживаются двух разных мнений по поводу препарата Егорова. Возможно, один из них в данном случае действует, как подонок. Но это — побоку! Доказать тут ничего нельзя, следовательно, он не подонок, а вполне порядочный человек.
Итак: двое ученых, два мнения, два препарата.
Дальше. Чего добиваюсь я? Или, скажем точнее, чего я имею права добиваться?
Я имею права добиваться, чтобы оба препарата боролись за себя в равных условиях. Честная научная борьба.
Сейчас условия не равны только в одном: препарат Егорова опорочен в печати. На любом обсуждении, в любой инстанции эта гиря будет тянуть его ко дну.
Ничего не поделаешь — нужно опровержение.
Следовательно?
Следовательно, опровержение совершенно нелепо, но, увы, совершенно необходимо.
Следовательно — заколдованный круг.
Я развернул обертку из–под сахара и начал снова скручивать в трубочку, теперь по диагонали. Она размялась в пальцах до тряпичной мягкости, но не рвалась…
Вывод этот меня не обескуражил, пожалуй, даже малость успокоил. Заколдованный круг — это было привычно. Даже несколько банально — трафаретный заголовок для критической корреспонденции.
Идти в отдел не хотелось — уже и сейчас там, наверное, не переставая, кудахчет телефон. Чтобы не сидеть над пустой чашкой, я взял еще кофе и к нему пирожное — во славу живительной глюкозы, которая, по непроверенным слухам, здорово действует на мозги.
Впрочем, теперь в глюкозе не было особой нужды. Как только я стал думать об этой истории, как о материале для статьи, все почти сразу же встало на свои места. Важно было начать — а там уже каркас статьи подсказывал, как группировать факты, и сами собой возникали связки, и сами собой вспыхивали мысли.
Но тут ко мне подсел Д. Петров. Он был прямо из Дворца спорта, брал интервью у французов и румын и заодно посмотрел матчи.
В данный момент меня не интересовали ни французы, ни румыны, ни матчи, но я все–таки спросил, чтобы заполнить паузу в разговоре:
— Ну, и как?
— Фантастика! — сказал Д. — Пойдем завтра?
Я согласился:
— Это можно…
«Это можно, — подумал я, —написать о собственной ошибке, конечно же без всяких красот и заходов: просто, строго, почти протокольно…»
— Ты видел Паулаускаса? — спросил агрессивно Д. — Вот кто будет играть! По–моему, он и сейчас уже не слабее Стонкуса. Один раз так мотанул двоих…
Д. Петров поставил на угол стола солонку и горчичницу, два его пальца упруго, как ноги баскетболиста, уперлись в скатерть — и вдруг, качнувшись влево, резко метнулись вправо.
Вообще он был сдержан, одевался строго, говорил на трех языках, и я слышал, как крашеная дама из хозчасти однажды высказалась о нем: «Он такой элегантный, такой высокий блондин, типичный русак — его даже можно принять за англичанина».
Но я раза четыре ходил с ним на футбол и знал, что Д. Петров — москвич. Однажды из–за одиннадцатиметрового он даже сцепился с полупьяным болельщиком «Торпедо», и тот порвал ему очень красивые бельгийские носки…
— Ну, сам подумай — разве не так? — услышал я вопрос Д. и ответил:
— Только так!
«Только так, — подумал я, — именно так. Об этом и написать, о заколдованном круге. У института свои интересы, вполне понятные. У газеты — опять–таки свои, и тоже вполне законные. А судьба препарата остается где–то за кругом, за желтой чертой…»