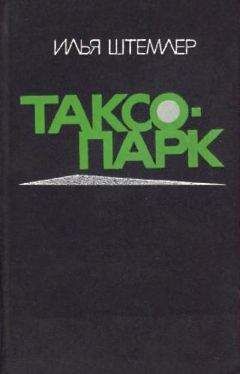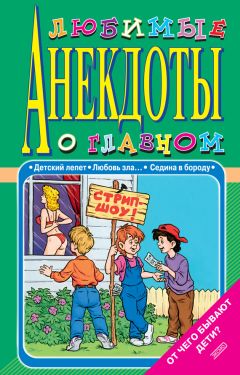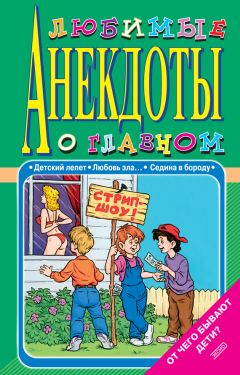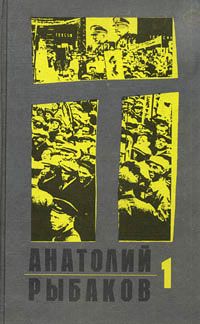Руслан Тотров - Любимые дети
А вино само наливается в стаканчики, и снова я тост произношу — о дорогах жизни и о нас, путниках:
— Дай бог, — провозглашаю, — чтобы дороги наши всегда были прямыми!
— Оммен!
Пьем, а стаканчики величиной с наперсток и бутылка как была полной, так и осталась, но Фируза разрумянилась уж, и даже Зарина порозовела, и мы сидим и болтаем о том, о сем, беспечно и весело, и, слышу, я о переподготовке воинской рассказываю, о Миклоше Комаре, о состязании в стрельбе из пистолета, и о З. В., конечно, о том, как он выдерживал меня в техниках и как я спроектировал тележку, оснащенную системой тяг для опрокидывания кузова, велосипедной фарой для движения в потемках и сигнальным устройством, которое должно было ухать филином: «У! У!», о вешалке в стиле рококо рассказываю, об Эрнсте, о директоре, о Габо — ой, трески! — и слушательницы мои смеются чуть ли не до слез, и, вдохновившись, я продолжаю — о тете Паше, о Канфете и так далее, и тому подобное — ах, до чего же смешна моя жизнь!
А вот и Зарина вступает и, насупившись, нахмурившись, показывает, как я выглядел, когда она впервые увидела меня.
— Строгий, сердитый! — смеется. — Каменный гость!
Ах, это маска моя, щит, оружие оборонительное!
— Я ведь и к знахарю только со страха поехала, — сообщает она. — Налетел как ураган: «Быстрей! Быстрей!», я и обмякла, как овца перед волком!
— И я оторопела в первый раз, — подтверждает Фируза. — До чего же, думаю, серьезный молодой человек.
— Конечно, — улыбаюсь, — пугало огородное!
— Нет, нет! — протестует Фируза. — Неправда!
— Да, да! — подтруниваю над ними. — А оказался он простым и доступным, таким же, как все!
В третьем лице говорим обо мне и смеемся надо мной, третьим, и, смеясь, я мельком гляжу на часы — полдесятого уже, пора и честь знать — и поднимаю стаканчик, последний тост произношу, но серьезно уже, без смехе:
— Дай бог изобилия, счастья и радости вашему дому! Пусть каждый, кто переступает ваш порог, несет добро в сердце, а уходит, став богаче и щедрее душой!
Поднимаюсь, выпив, прощаюсь с Зариной, иду в переднюю, и Фируза, провожая меня, говорит тихонько:
— Спасибо вам. Я давно уже не видела, как она смеется.
Надеваю пальто, шапку, открываю дверь, собираясь уходить, и слышу голос Зарины.
— Алан! — зовет она.
Возвращаюсь, подхожу к ней, а глаза ее уже потухли, и, словно пересилив себя, она говорит и тоже тихонько, так, чтобы не услыхала мать:
— Не приходите больше.
— Почему? — спрашиваю удивленный и обиженный даже.
— Рано или поздно это вам надоест.
— Слышал уже, — киваю. — Других причин нет?
— Достаточно и этой, — жестко отвечает она.
— Нет, — улыбаюсь, — недостаточно.
— Я боюсь привыкнуть! — восклицает она в отчаянии. — Я не хочу ж д а т ь вас!
Это похоже на признание.
— Ничего, — бормочу, смущенный, — ничего…
ВЕСЕЛЫЙ УЖИН С ПАРАЛИЗОВАННОЙ ДЕВУШКОЙ.
Возвращаюсь домой и, едва открыв дверь, слышу телефонный звонок и, зная уже, чувствуя, что это Зарина, бросаюсь к аппарату, хватаю трубку и бодро возвещаю о себе:
— Да?
— Здравствуйте, — слышу. — Где изволили пропадать?
Это Майя.
— Я тут недалеко, — сообщает она. — Хочешь, зайду на часок?
— Нет, — отвечаю и добавляю второпях, смягчая ответ: — Я не один.
— Надеюсь, у тебя не женщина?
— Нет, — говорю, — не волнуйся.
— С чего ты взял, что я волнуюсь? — смеется она. — Я не собираюсь посягать на твою свободу.
— Тем более, — говорю, — тем более…
— А все же кто у тебя, если не секрет?
— Женщина, — отвечаю, — папуаска с острова Мяу-Мяу.
— А как ее зовут?
— Луиза Карловна Фельдшер.
— Перестань! — сердится она. — Кто у тебя на самом деле?!
Тут бы мне рявкнуть на нее, чтобы не приставала впредь с подобными вопросами, но я бормочу, словно оправдываясь:
— Да никого у меня… Брат приехал.
— То-то же! — произносит она удовлетворенно. — А с папуасками не торопись пока, успеешь еще напапуаситься.
— Ладно, — обещаю, — не буду.
— Жаль, что не получается у нас сегодня.
— Жаль, — вздыхаю, — но ничего не поделаешь.
— Не скучай, — смеется она. — Увидимся еще.
Слово «увидимся» в ее лексиконе имеет иной, отличный от общепринятого смысл.
— Конечно, — говорю, — обязательно.
— До свидания, — прощается она. — Привет брату.
— Передам, — отвечаю, — спасибо.
Кладу трубку, раздеваюсь и, почувствовав вдруг неимоверную усталость, валюсь на раскладушку и проваливаюсь в какое-то смурное полубытие, не сплю вроде бы, но и не бодрствую, и вижу ровную, как стол, пустыню, а посреди нее — веранду летнюю, а на веранде знахарь стоит, но не в гимнастерочке застиранной, а во фраке и в цилиндре блестящем, стоит и произносит с выражением и с подвыванием даже, словно стихи на современный манер читая: «Человек рождается с одним лицом. Но бывает, что с в о е г о человеку мало. Он ищет другое, лучшее, но пока ищет, настоящее лицо его умирает». Закончив декламацию, он снимает цилиндр и раскланивается, и под аплодисменты чьи-то веранда медленно поднимается в воздух — а знахарь все раскланивается — и бесшумно, как НЛО, улетает, и я остаюсь один в пустыне, но пустыня эта заасфальтирована от горизонта до горизонта, и на всем пространстве ее вспучиваются, дымясь, асфальтовые пузыри, опадают и снова вспучиваются и, достигнув высоты человеческого роста, лопаются, но тоже бесшумно, и словно катапультой подброшенные, из них выскакивают какие-то люди с черными тюленьими телами, с телевизорами вместо голов, с голубыми экранами вместо лиц, а на экранах девки пляшущие, стриптокинез забубенный, а на экранах рожи хохочущие, и перекликаясь — Ирбек! Каурбек! Батырбек! — они окружают меня, хватают и начинают перебрасываться мной, как мячом, и, перелетая от одного к другому, я кричу что-то нечленораздельное, и на одном из экранов появляется Люда-Людок, жена васюринская, и, распахнув цветастое кимоно, улыбается соблазнительно, и я слышу голос ее: «Вы говорите совсем без акцента!», и рожи экранные (Ирбек, Каурбек, Батырбек) поворачиваются к ней, а Люда-Людок приплясывает, кимоно сбросив, исполняет вставной номер.
Что танцуешь, Катенька?
Польку, польку, маменька!
Что за танец, доченька?
Самый модный, маменька!
Рев, свист восторженный, в воздух взлетают дензнаки, и забытый на время, я выбираюсь из толпы и вижу колясочку шагающую, и слышу голос Алана: «Садись! Скорей!», и голос Габо: «Срывайся!», и, благодарный, вскакиваю в коляску, хватаюсь за рычаги и нажимаю изо всех сил, но коляска не трогается, только подрагивает чуть и поскрежетывает, а Людок все приплясывает, и, когда она кончит, телетюлени вспомнят обо мне, и, весь мокрый от пота, я дергаю рычаги, но напрасно — вручную эту конструкцию не приведешь в движение, тут моторчик нужен, моторище! — и я кричу Алану, на помощь его призывая: «Нужен двигатель внутреннего сгорания!», и, то ли очнувшись, то ли проснувшись, повторяю, счастливый:
— Двигатель внутреннего сгорания….
Встаю и, сам уже пританцовывая — привет, Людок! — иду в ванную, споласкиваюсь холодной водой и, глядя в зеркало, улыбаюсь, довольный, и, улыбаясь, покачиваю головой — как же я сразу не додумался? Конечно, мотор надо использовать, дизель! — и, налюбовавшись собой, а заодно и в правильности своей мысли убедившись, возвращаюсь в комнату, подхожу к телефону, снимаю трубку и небрежно так, мизинцем левым набираю номер, слышу длинные гудки и слышу хриплый голос:
— Да?
Это Эрнст.
— Здравствуй, — говорю. — Как поживаешь?
— Что за идиотизм?! — слышу в ответ. — Ты что, умом повредился?
— В каком смысле? — интересуюсь.
— В прямом! — слышу. — Ты знаешь, сколько сейчас времени?
— Представления не имею.
— Час ночи! — сообщает он. — А у меня, между прочим, жена и двое детей.
— Две девочки, — уточняю, зная его больное место.
— Ну и что? — слышу. — Третьим родится мальчик!
— …пятым, шестым, — продолжаю счет. — Благодаря тебе в стране произойдет демографический взрыв!
— С такими, как ты, демографический взрыв невозможен!
— Ладно, — отвечаю, задетый, — рожай, если тебе нравится.
— Лучше о себе подумай!
— Отстань, — ворчу, — для нотаций у меня есть отец.
— Передай ему мои соболезнования.
— Сам передавай!
— Слушай, — говорит он, — у меня складывается мнение, что в детстве тебя мало били.
— Я был хорошим, воспитанным мальчиком.
— Оно и видно!
— Конечно, — говорю. — А теперь скажи — ты знаешь, как действует дизельный двигатель?
— Ты позвонил, чтобы это спросить?!
— Да, — улыбаюсь, — именно это.
— Знаю, — ворчит он, — ну и что?