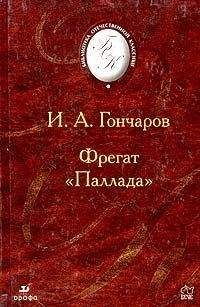Борис Мисюк - Час отплытия
— С вас причитается, Вячеслав Юрьич… пол-ящика.
— Да хоть цевый! — с радостью откликнулся дед, расплываясь в шкодливой, кошачьей улыбке.
Вскоре к ним присоединился третий механик, как раз сменившийся с вахты. Это был совсем молодой парень, лет двадцати — двадцати трех, недавно закончивший мореходку. В нем странно сочетались живость, темперамент и безволие. Он был всегда весел и пользовался успехом у судовых холостячек. Правда, девицы эти одна за другой в нем разочаровывались: он создан был для легкой, беззаботной жизни, составленной из удовольствий. Несмотря на все свое безволие, ему всегда удавалось выскользнуть из самых цепких объятий и весело рассмеяться вослед уходящей жертве обманутых надежд.
Обманулся в нем и Вячеслав Юрьич, но об этом чуть позже, потому что к троице, вплотную занятой армянско-беринговским коньяком, примкнул четвертый — Пашка Шестернев, и багрово сияющий дед провозгласил тост «за молодых специалистов».
Со дня последнего застолья в чифовой каюте на лице Шестерки произошли заметные перемены — нос его стал примерно вдвое крупнее и, словно лакмусовая бумажка, изменил розовый цвет на фиолетовый. Чиф и дед покосились, но пытать ни о чем не стали: магнитофон гремел «Казачком», звенели фужеры, плескалось море в обшивку базы, стучался в иллюминаторы предвестник шторма — ветерок.
Двое суток с минимальными перерывами на сон и вахты длился праздник в каюте деда. Состав пирующих менялся, как в пьесе: те же и Киса (старпом на вахте), те же и завпрод Степа с сосисочным фаршем (третий механик на вахте)…
Кстати, дневную вахту третий пропустил. Вахта была ходовая, и дед сделал ему подарок — позвонил второму механику и попросил отстоять за третьего: «Он пвохо себя чувствует и отстоит за тебя завтра». А ночью, в четыре часа, моторист его еле добудился. Третий, с трудом переставляя ноги, спустился в машинное отделение. Благо база лежала в дрейфе и главный двигатель не работал, а то в голове и без того гудело что-то восьми- или десятицилиндровое. Он дал задание по вахте мотористу и Мотыльку, а сам прикорнул у пульта. Когда работает главный, в машине тепло, когда работаешь сам, тепло тоже, а тут накатывали через световые капы бодрящие волны морского воздуха и вкупе с похмельным ознобом через час окончательно разбудили вахтенного механика. Он съежился на стуле, обнял себя крест-накрест за плечи, поморщился, зябко потер ладони, встал, походил по гулким плитам, потом кивнул мотористу на пульт: «Побудь» — и двинул вверх по трапу. У него прорезался акулий аппетит и он решил зайти в каюту взять пачку печенья в рундуке. Но в коридоре, где живут механики, неожиданно уловил в обычной ночной тишине приглушенное: «Эх, полным-полна коробушка, есть и ситец, и парча…» Пел Рубашкин, и песня неслась оттуда же, из дедовой каюты. Третий тихонько постучал пальчиком, нажал на ручку, дверь открылась.
«Полна коробушка» хлынула ему в лицо звуками и запахами остывающего кутежа. В кресле, свесив буйну голову на грудь, спал дед. Шалун Степа сидел впритирку с Кисой на диване, смотрел на третьего воловьими глазами и очень медленно, нехотя убирал руку с плеча женщины.
Уловив в лице юноши растерянность, шалун с хозяйским радушием пригласил его за стол, вставил фужер в руку Кисе, пригубил сам. Третий жадно опохмелился, съел полбанки фарша, а на Степино предложение повторить ответил, что он на вахте, что там, внизу, его ждут мотористы и что лучше он возьмет с собой. Степа встретил это заявление бурной радостью и даже подмигнул: мол, ты тоже жук, но я тебя понимаю. Не теряя времени, третий прихватил полбутылки, закуску и, внутренне ликуя, отправился, в машину.
Удивить, обрадовать ребят — вот что ему сейчас хотелось больше всего. И это было так легко сделать. Он спрятал бутылку в брюки и прикрыл курткой. Спустившись к пульту, где сидел моторист, он подозвал Мотылька: «Да бросай ты этот фильтр!» Мотылек подошел, обтирая ветошью масло с локтей. И тут третий, как факир, выхватил из кармана коньяк. О, он вовсю насладился и удивлением, и восхищением, и любовью, в один момент промелькнувшими в глазах Мотылька. Моторист, конечно, удивился тоже, но незримые нити родственных душ соединяли именно их двоих — третьего и Мотылька.
«Чего-то жарко в машине стало, — подумал третий. — Капы, что ли, задраили?» Он поднял голову, но через трое решеток ничего не увидел и решил, что задраили. Достали стакан из ящика пульта, выпили с Мотыльком. Моторист отказался, пошел домывать фильтр. Третий, ухмыляясь, показал на его спину пальцем. И удивился: вместо одного у него на руке параллельно росли два указательных пальца. «Надо выпить еще», — подумал он и налил двухструйный коньяк в двуствольный стакан. Попало и на вахтенный журнал, но Мотылек тут же убрал лужицу ветошью. Бутылку допили. И вдруг у третьего противно похолодело в висках. Он качнулся, отметил брызнувшие из глаз звезды, сказал: «Пойду п-посмотрю», додумал про себя: «уровень топлива в расходных цистернах» — и шагнул к трапу. Мотылек с опаской двинулся за ним. Три ступеньки одолев по инерции, третий с размаху запнулся за четвертую, руки его сорвались с релингов, и он припечатал лицо к рифленому железу трапа. Мотылек, ойкнув, бросился на помощь, подхватил своего вахтенного начальника, увидел, как быстро заалел его рот, а потом подбородок, и болезненно поморщился.
Тяжелый он, елки-палки, оказался, начальник, куда тяжелей мешка с мукой, того, что на перегрузе. И никак сам идти не хотел. С головы до ног Мотылька кровью перепачкал. И бормотал, бормотал разбитыми губами: «Ты сю ашину окрасил, теерь я тея крашу… Хороший ты арень…» И плакал и вновь бормотал: «Я одлец, одлец… Ты раотал и олучил коейки, да… А я расисался и олучил шессот… Дед — сука и я тоже одлец… Ты еня рось, рось…» Но Мотылек его не бросил, тем более, что не сразу поверил пьяному признанию третьего. Он дотащил его до гидрофора, обмыл, привел в относительную норму. И через два часа, к сдаче вахты, третий был почти как огурец.
Сменившись, Мотылек завалился спать, и только во время обеда до него дошло, что третий спьяну выболтал, пожалуй, правду. Мотылек вспомнил, как хвастали старшие курсанты крупными заработками на покраске машины, как кайфовали сами и угощали их, салаг. Но это было давно. Теперь-то они не салаги. А надули их, как маленьких. На шестьсот рублей надули. Это значит по двести на рыло. Ха, приличный шмат. Конечно, можно за чужой счет коньячок посасывать. Надо обязательно Кольке с Витосом сказать…
Отобедав, Мотылек пошел на матросскую палубу. «Удача» одолевала шторм, всю надстройку бил мощный озноб: машина-то в корме. Тряслись руки и ноги у Мотылька, и в какой-то момент ему почудилось — это от страха. Вот он идет к обманутым корешам по покраске, а дед и третий сверху следят за ним. Он даже невольно взглянул вверх исподлобья. И на него — обо же — в упор (подволок в коридоре низкий) воззрился огромный зловеще-оранжевый глаз плафона. Мотылек заспешил и шустро юркнул в каюту.
Коля Худовеков как раз только залег. Он стоял с Мотыльком в одно время, но после вахты еще не спал, потому что, сменившись утром, целый час потом работал на палубе — крепил шлюпочные брезенты. Шторм уже тогда полоскал вовсю, и ветром сдуло сон с матроса. Когда вошел Мотылек, Коля скрипнул пружинами, устраиваясь поудобнее и давая знать, чтоб не шумели. Витос, в кирзовых сапогах с узкими отворотами — по высшему матросскому классу, в рабочих, но тоже ладных брюках, в простом рыбацком свитере, правда, с ушитым по шее воротом, сидел на диване с книжкой. Мотылек присел рядом и зашептал. Он долго шептал и не упустил ни одной подробности из происшедшего на ночной вахте, поделился созревшими за обедом мыслями и даже подорожными страхами. Последнее Витос выслушал с нескрываемым презрением, но Мотылек не заметил этого, так как, исповедуясь, смотрел куда-то в грудь Витосу.
Снова скрипнула койка, но Коля промолчал. Он умел все видеть, слышать и — молчать. Школа жизни. У Мотылька тоже была такая школа, только начальная.
Пойти прямо сейчас и набить им морды, третьему и деду, подумал Витос, и тут же зазвучала в голове песня Высоцкого: «Бить человека по лицу я с детства не могу». Она и там, на ботдеке, не вовремя вспомнилась, подумал он, там, возле шлюпок, ночью, когда Шестерка загородил ему дорогу и сгреб, что называется, за грудки. «Отстань, слышь, от моей бабы», — прохрипел Шестерка. «Да что ты? Какой бабы?» — вырвалось у Витоса. «Сам знаешь, не придуряйся. Светка, камбузница». Это надо же Светланку бабой назвать! «А-а при чем здесь?..» Видя растерянность Витоса, Пашка отпустил его рубаху и выпалил: «Да я ее еще с прошлой путины…» Реакция у Витоса была четкая — вместе с последним похабным словом, в одну и ту же секунду щелкнул удар, прямой справа. Держи Пашка голову чуть повыше, удар пришелся бы в челюсть, и конфликт можно было бы считать решенным. Но пострадал только нос Шестерки. Злости и силы в ударе не было. В голове у Пашки лишь коротко гуднуло, и он быстро пришел в себя. Удар, пожалуй, больше переживал сам Витос: «Бить человека по лицу…» Секундой замешательства и воспользовался чифов наемник. Он размахнулся, тоже справа, и удар был бы сокрушительным, удар кувалды, потому что кулак Пашки Шестернева вобрал в себя добрый десяток лет кочегарского труда — и на угле, и на мазуте, а потом еще слесарем и мотористом. Витосу ничего не стоило легким нырком уйти от этого затяжного, размашистого удара. Ну а вслед за нырком автоматом сработала классическая «двойка» — левой, правой. Как обычно на ринге, левая произвела мгновенную пристрелку, установила дистанцию, а правая выстрелила — сухим и точным щелчком в челюсть. Шестерка тюфяком осел и завалился на левый бок, по инерции собственного замаха. Сгоряча Витос было отвернулся и сделал шаг прочь, но тут же возвратился. Он тряс Пашку за могучие плечи, но безрезультатно. Потом нагреб со шлюпочного брезента снежку и растер Пашкины щеки, лоб, челюсть. Тот замычал и стал подниматься на ноги. Витос отвел его в тепло, в коридор, и там, прислонясь к переборке, Пашка посмотрел на него пьяным от нокаута, но уже злым взглядом и прохрипел: «Ниче, паря, еще встретимся».