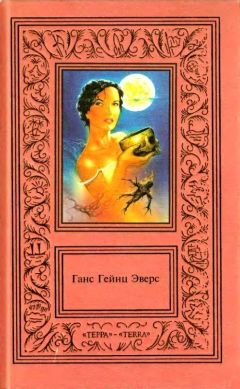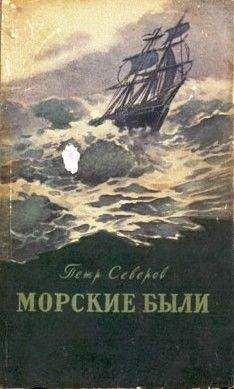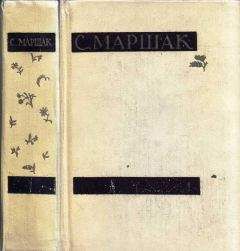Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый
Шмаеву давно уже надоели эти однообразные басни, но с исправником приходилось встречаться, принимать его у себя дома, поручать кое-какие секретные дела. Трифонов, конечно, брал — как брали все: от волостного писаря до станового, до прокурора и губернатора. Впрочем, это были мелкие суммы, и его самолюбие постоянно оставалось уязвленным. В пятом году шахтовладельцы стали щедрее, и он заметно приободрился, даже купил рысака и дрожки, но суровый год миновал, и самые денежные клиенты вскоре перестали радоваться встречам с исправником. Вот почему Трифонов так встрепенулся, получив приглашение Шмаева: скупой «старобельский мужичок» был деловит и не приглашал просто, на чашку чая.
— Не понимаю, отец, — раздраженно сказал Вовочка, — что ты находишь в этом мужлане! Манекен… Да, разговаривающий манекен!
Шмаев чуть приметно усмехнулся, и Вовочка понял, что отец заранее приготовил отговорку.
— Видишь ли, дитя великовозрастное мое… Скушно!
— А с этим деревом весело?
— Очень! Только нужно уметь смеяться. Он-то ведь не замечает, что я смеюсь. Подозреваю, что Трифонов полнейший безбожник. Ты обратил внимание: стоит ему про свои похождения заговорить, как я тут же священным писанием его шпигую. И рад бы он от библии, от всех пророков отмахнуться, да нельзя — богохульство. Слушает, остолоп! А я его, миленького, все просвещаю… Потеха!
Вовочка отлично понимал, что Трифонов вызван не ради развлечения. С той минуты, когда он подсказал отцу, что плюсы и минусы на карте Лагутина можно проставить и самим, старший Шмаев неуловимо переменился. Правда, он грубо высмеял «парижанина» и, вероятно, был уверен, что сын тотчас же пожалел о неосторожном слове, но он недостаточно знал Вовочку-европейца и не подумал о том, что у сына могут быть и свои планы.
Отрезок житейского пути, пройденный Вовочкой вдали от родины, не был усыпан розами. Ему доводилось жить не только в лучших отелях, но и в грязных меблирашках. За игорным столом, в компании лощеных кутил, высокомерных жуликов с титулами графов, князей и баронов, он не раз испытал ледяное касание страха, жуткое безмолвие риска, взлет хищной радости, бессильную ярость неудач.
У него постоянно не хватало денег, так как папаша был скуп: он переводил Вовочке строго определенные суммы. В письмах он корил сына за мотовство, приводя в пример свою скаредность. Но младший Шмаев знал цену деньгам, ту цену, о которой папаша, пожалуй, даже не догадывался. Деньги для Вовочки были понятием волшебным, мистическим, подавляющим все добродетели, все условности морали. Именно из-за денег он прибыл в эту шахтерскую глухомань, твердо решив, что настало время поделить с папашей его барыши. Но Шмаев-отец был проницателен, осторожен и в отношении к сыну груб. Едва лишь Вовочка заговорил о своем пае, как папаша показал ему кукиш. А теперь сама судьба подсказывала Вовочке безошибочный ход: если Лагутин исчезнет, а его карты окажутся у отца, Вовочка потребует за молчание половину всего шмаевского капитала. В «операции» с Лагутиным Вовочка был готов принять и непосредственное участие, однако, поскольку в это дело ввязался Трифонов, младшего Шмаева вполне устраивало наблюдение за ходом событий со стороны. Он не мог сдержать улыбки при мысли о том, как выкатит папаша глазища, когда сынок назовет его убийцей и пообещает ославить на всю губернию. А потом, получив свой пай и упаковав чемоданы, Вовочка укатит за границу, подальше от этой чумазой, озлобленной, непокорствующей шахтерни.
Одеваясь и поглядывая на модные ручные часы, младший Шмаев сказал равнодушно:
— Я предпочитаю прогулку на свежем воздухе.
— Можешь остаться с нами, — предложил отец и тут же проявил несколько необычную заботу. — Одевайся теплее, на дворе сегодня холодно…
Вовочка прошел в комнату матери, хитро подмигнул ей, приставив палец к губам, и, досадуя на ее непонятливость, осторожно, чтобы не шуметь, снял пальто, шапку, галоши. Антуанетта догадалась: ее резвый Вовочка затеял какую-то веселую шутку. Она поспешно спрятала его вещи и тоже хитро мигнула на дверь, за которой старший Шмаев уже с нетерпением ждал исправника.
В соседней комнате было темно; неслышно ступая, Вовочка нащупал спинку дивана, присел. «Нужно уметь смеяться, — сказал он себе, — В крайнем случае, я отвечу, что учился смеяться незаметно…» Все же это было рискованное предприятие, и старший Шмаев мог не на шутку рассердиться. Но у Вовочки были планы, которые стоили риска.
Трифонов явился в точно назначенный час. Вовочка слышал тяжкий грохот его каблуков, приветственный возглас и, после краткого молчания, нелепо громкий хохот. Он с жаром рассказывал о своем иноходце, и Вовочка как будто видел сквозь двери сияющее, багровое лицо исправника, его жесткие подстриженные усы, прическу бобрик и крупные зубы.
— А лошадь оказалась действительно штучкой! Ну кто бы мог подумать, что она чистых орловских кровей?.. Да такой лошадке и цены нету! А жаль, придется продать…
Голос Шмаева прозвучал насмешливо:
— Пускай она даже арабской породы, я не куплю…
— Да уж знаю! Скуповаты, уважаемый, скуповаты…
Шмаев ответил евангельским текстом:
— Беззакония мои я сознаю, и грех Мой всегда предо мною…
— Э, батенька, началась вечерня? — уныло проговорил исправник. — Не лучше ли по рюмочке коньяку?..
— Просите, и дано вам будет, ищите и обрящете; стучите, и отверзется…
— Искать я не буду, — сказал исправник, — не с обыском пришел, а стуком — чего добьешься? Но, ради создателя, обойдемся сегодня без молитв!
Они заговорили тише, и Вовочка плотнее приник к двери. Он слышал, как вошла служанка, зазвенела посуда.
— Сколько вы хотите за свою клячу? — неожиданно спросил отец.
Исправник ответил, не раздумывая:
— Двести… Другого такого коня не сыскать.
— Мало просите.
— Но я отдам за полторы… Вам повезло. Тут дело случая. Как раз чертовски понадобились деньги.
— Я дам вам тысячу рублей, — медленно и серьезно произнес Шмаев. — Да, без шуток… Я уплачу ровно тысячу рублей. Подождите, не прыгайте, не прерывайте. Вы получите тысячу наличными и вот за этим столом. Надеюсь, вы верите моему слову? Я даю слово…
Они помолчали. Потом Трифонов спросил негромко, и голос его дрожал:
— Я должен что-то сделать?
— Конечно…
— Так говорите же, что?..
— Вы принесете мне сумку этого Лагутина.
— Не понимаю… Зачем она вам?
— Меня интересуют его бумаги.
— Но ведь он поднимет скандал! О, вы не знаете этих господ ученых! Они из-за какой-нибудь травинки, стекляшки, бумажонки готовы идти в огонь…
— Лошадь останется у вас и тысяча рублей тоже…
Исправник вдруг засмеялся:
— Наивно! Очень наивно, дорогой… Что вы возьмете из его бумаг? Он ведь любую цифру и строчку знает напамять.
— Нет, он не сможет вспомнить. Он будет молчать… Ну, понимаете… С ним случится несчастье. Дороги сейчас плохие. Донец не везде замерз, озера — тоже. Это ведь случается, и нередко, был человек — и нет… А что у полыньи спросишь? И лед и вода — молчат.
— Послушайте! — строго воскликнул исправник. — Вы много сегодня пили?.. Я слушаю и не верю ушам…
Шмаев продолжал прежним ровным тоном:
— Есть все основания полагать, что этот ученый — бунтовщик. С какой это стати водится он с шахтерами? Его арестуют. Я в этом: уверен. А ваша тысяча… ну что ж, останется у меня.
Они опять замолчали. Вовочка слышал, как глухо постукивало сердце. Сидеть на спинке дивана, прильнувши к двери, было неудобно: ломило поясницу, ноги немели в коленях. Однако он должен был дослушать этот разговор: план, который несколько минут назад наметился у него лишь смутно, теперь определялся просто и ясно. Каков отец!
Трифонов заговорил отрывисто и строго; он все еще не верил предложению хозяина:
— Право, господин Шмаев, вы странный человек. Вы цитируете священные книги и предлагаете мне… совершить преступление?
— Когда вы стреляли в толпу, господин исправник, — в тон ему ответил Шмаев, — вас не тревожили подобные мысли?
— Я присягал царю и престолу… Это был долг службы.
— Это был и ваш христианский долг, — подтвердил Шмаев. — Псалом семнадцатый учит: «Они восстали на меня в день бедствия моего, но господь был мне опорою». Не тревожьтесь, я возьму на себя этот грех, если вы сочтете такое полезное деяние грехом. Запомните мои слова: бунтовщика все равно арестуют. Ученое звание его не спасет.
Снова зазвенела посуда, и Трифонов спросил, смеясь:
— Значит, заповедь «не убий» временно исключается?
Шмаев ответил без малейшей запинки:
— «И возрадуются кости, тобою сокрушенные!»
— Положим, не возрадуются, — глухо сказал исправник. — Однако где вы постигли всю эту премудрость? Так и сыплете, будто из мешка!