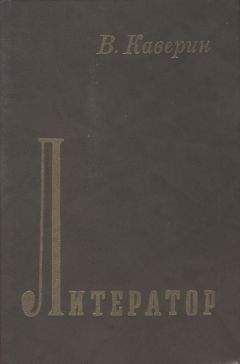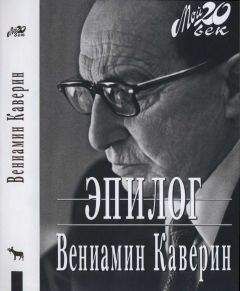Вениамин Каверин - Избранное
— Что он говорит…
— Я рассказал, как сегодня вы явились ко мне на квартиру с личными письмами, адресованными Сергею Иванычу, и предложили купить их по три рубля за штуку. Вы соблазняли меня тем, что в этих письмах якобы есть места, дискредитирующие Сергея Иваныча как советского гражданина. Вы доказывали, что впоследствии я смогу выручить за них огромные деньги.
Не помня себя, Трубачевский бросился к нему. Дмитрий встал навстречу, лицо у него было грязно-бледное, полные губы сводило.
— Я больной явился сюда, — очень громко, как в бреду, закричал Неворожин.
Несколько секунд ничего не было, глухота. Потом Неворожин подошел к нему и вырвал из рук портфель.
— Я так и думал, — веско сказал он, — вот эти письма.
— Не смейте, отдайте! — бессмысленно закричал Трубачевский.
Неворожин отстранил его.
— Здесь еще что-то! Сергей Иваныч, вот случай проверить.
Он положил на стол «Пандекты».
— Это ваша книга?
— Не нужно, — махнув рукой, тихо сказал Бауэр.
Трубачевский закрыл и открыл глаза. У него голова кружилась.
— Сергей Иваныч, — начал он, стараясь говорить медленно и не волноваться. — Вы были больны, и я боялся, что у вас что-нибудь станет с сердцем. Поэтому я ни чего не говорил до сих пор. Но теперь…
Лицо Неворожина, желтое, с открытыми маленькими зубами, придвинулось к Трубачевскому, он не выдержал и ударил. И все смешалось. Его куда-то вели, он кричал. Дмитрий держал его за руки. Потом дверь хлопнула. Он сидел на ступеньках, быстро дыша. Дверь снова распахнулась, пустой портфель вылетел и упал в пролет. Должно быть, его подобрали, голоса были слышны, по лестнице поднимались.
8Свет погас, занавес раздвинулся — маленькая станция, носильщики, газетный киоск, — а Варвара Николаевна все еще сердилась на Дмитрия за то, что они приехали так рано. Он даже не дал ей позвонить Мечниковым, теперь ее там ждут, и в антракте придется бежать к автомату. Высокий военный вышел на сцену и нетерпеливо закурил папиросу. Чтобы все узнали, что он кого-то ждет, он спросил у сторожа, когда придет поезд. Сторож был такой же, как тысячу лет назад в Казани, где Варвара Николаевна родилась, — в белом переднике и с бородой. И колокол такой же. И позвонил так же. Интересно, кто же приедет? Приехала знаменитая артистка, толстуха.
Варвара Николаевна послушала, о чем они говорят, потом покосилась на Митю. Он сидел прямой, тихий и такой красивый, что можно сойти с ума. Но она почему-то не сходит. Она тихонько пожала плечами. А может быть, это хорошо, что она собралась за него замуж? В семнадцать лет она думала, что если не станет артисткой, тогда будут дети. Артисткой не стала, и детей не будет. Мариша говорит: «Сходила замуж». Сходила и вернулась.
На сцене погасили свет, что-то загрохотало, поехало, и декорация переменилась. Комната. Военный привез жену домой. Они говорили, говорили, и вдруг оказалось, что жена беременна, — вот почему она так страдала. Но она была в гимнастерке, которая совершенно не шла к ней, и смотреть было неинтересно. Муж сказал, чтобы она делала аборт. «Мы на посту, нам нельзя иметь детей. Ясно, как апельсин. Партийке некогда этим заниматься».
Свеч снова погасили, и Варвара Николаевна почувствовала, что Дмитрий посмотрел на нее в темноте. Она знала, как он посмотрел, — как пес. Он влюблен, как пес. У него собачьи глаза. Он ослабел — это противно. И вообще — ничего. Она мысленно сказала это слово, по слогам, как говорит Мариша: «Ни-че-го». Как будто рядом с нею сидел ее плюшевый мишка. Она даже огорчилась. И ведь, наверно, он нравится другим. Нет! Чего-то у него не хватает. Она стала думать, чего не хватает, и пропустила половину акта. Сцена теперь представляла кабак, разговаривали двое, старый и молодой, и молодой почему-то шепотом.
— Митя, почему он говорит шепотом?
Митя стал объяснять, она кивала, кивала и в конце концов ничего не поняла. В общем, молодой был белогвардеец. Он долго пил водку, а потом вынул револьвер и сказал, что, если старик его продаст, он его первого шлепнет. Опять загрохотало и поехало, и Варвара Николаевна совсем перестала слушать. Раньше она только на концертах думала о своем, а вот теперь и в театре. Нехорошо, постарела. Старая, она выходит замуж за молодого Митю, и на днях он познакомил ее с отцом. Какой любезный старик! Она вспомнила это милое движение, которым он закидывает голову, когда скажет что-нибудь, и ждет, — ну-ка! И совсем не похоже, что он так страшно болен, а врачи говорят — осталось полгода. Полгода. Это значит — она сосчитала на пальцах, — что он умрет в апреле. Нет, в марте. Тогда они с Митей возьмут себе три комнаты, а Машенька переедет в архив.
На сцене крикнули, она вздрогнула и стала слушать, но оказалось, что это была последняя фраза, и акт кончился. Дали свет и снова погасили, аплодисменты еще продолжались.
— Митя, уже поздно звонить Мечниковым. Пойдем в фойе.
Она шла, зная, что все на нее смотрят, и не давая понять, что она это знает, но не чувствуя прежней гордости, всегда приходившей в такую минуту. Она была в новом платье, и оно шло ей — это легко было угадать по внимательным взглядам женщин, — но и это почему-то не радовало ее, как прежде. С Дмитрием не о чем было говорить, но она что-то сказала, он ответил, она улыбнулась, и даже это пустое притворство сегодня не удавалось ей, и она замолчала. «Постарела, постарела», — снова подумала она с огорчением.
В фойе было много знакомых. Ставеман, театральный критик, подошел к ним. Спектакль был, по его мнению, хорош, а пьеса плоха, — довольно этих обозрений.
— Подождите, ведь это только первый акт, — возразила Варвара Николаевна.
Он начал спорить, но заметил, что его не слушают, и заговорил о другом. Амундсен погиб, больше нет никаких сомнений, — вчера норвежские рыбаки нашли поплавок «Латама». Вся экспедиция, вместе с Нобиле, не стоила этого человека.
Он говорил захлебываясь, боясь, что его перебьют, а она думала о том, что за лето произошло так много важных и интересных вещей: спасли Нобиле, и, говорят, Муссолини разжаловал его за то, что он позволил себя спасти, погиб Амундсен, — а на премьере все было так же, как и в прошлом году, только что стали носить эти длинные вязаные пелерины, вот как на этой старой дуре из Театра комедии, которой она так и не отдала девяносто рублей.
— Нужно было отвезти его назад и выбросить на лед, — сердито сказала она, услышав, что лейтенант Цапни, спасенный «Красиным», потребовал, чтобы его называли господином. — Послушайте, а правда, будто он съел Мальмгрена?
Они вернулись в зал, второй акт начинался. Только теперь она вспомнила, что за весь вечер Дмитрий не сказал ни слова.
— Митя, почему вы молчите все время? У вас настроение плохое, да?
— Нет, хорошее. Это Ставеман задурил мне голову. Знаете, Варенька, мы с ним когда-то в одном классе учились, в гимназии Лентовской. Он и тогда болтал, болтал…
Но Ставеман был ни при чем.
Свет погас, и в полутьме она посмотрела на Митю сбоку и тихонечко, чтобы он не заметил. Все-таки милый. И умный. И любит — это важно, это очень важно. И понимает, что она — «ни-че-го», вот почему весь вечер молчит и глаза такие грустные и собачьи. Она дотронулась до него, он поцеловал руку. Она отняла и стала смотреть на сцену.
Вечеринка. Разодетые девицы бегали, хлопотали и все просили петь кургузого урода. Другой урод сказал, что из «Травиаты» нельзя — «с марксической точки зрения». Один актер был похож на Трубачевского. Бедный мальчик! Потом пришел толстый дядя с выгнутой грудью, которого все звали майором, и все стали вспоминать прошлое, как было хорошо, Кронштадт, морское собрание.
Она вдруг забыла, как называется пьеса.
— Митя, как называется? Ах, да… «Проходная комната». Нэпманы. Надоело. И не похоже.
На сцене давешний певец сказал, что у него после рыбы сел голос, все засмеялись. Она прослушала и машинально чуть не переспросила актера. Это было так неожиданно, что она тихонько засмеялась, в то время как все уже давно замолчали, и Дмитрий сделал большие глаза и в темноте удивленно поднял брови. Нет, все будет хорошо. В марте Сергей Иваныч умрет, и они возьмут три смежные комнаты, а Машенька переедет в архив. Квартира хорошая. Вещи тоже хорошие, но запущены, и все нужно ремонтировать, красить, полировать. В столовой — два буфета: один превосходный, павловский, а второй нужно продать. Хлопот, забот!
Но было еще что-то очень важное, важнее этих забот. Она повела плечами. Еще кому-то нужна эта неловкость, принужденность, эти слабые собачьи глаза, это чувство нечистоты, которым она мучится с тех пор, как Неворожин уговорил ее и она решилась. Вдруг она вообразила, что он в театре. Она вздохнула и выпрямилась.
— Митя, я еду домой.
Она встала сразу, чтобы Митя не стал уговаривать, и пошла к выходу вдоль первого ряда. Где-то зашикали, зашипели. Дмитрий догнал ее и молча взял под руку.