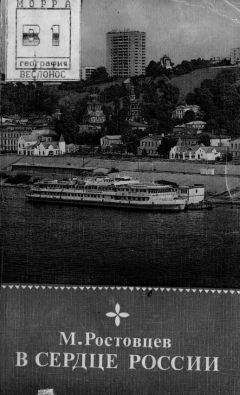Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
— Ясно? — спросил Ефимов, и ребята промолчали.
Но Копырев не промолчал, спросил:
— А почему так, Сергей Петрович?
Ефимов удивленно глянул на него.
— Что, что? — переспросил он.
— Почему Страхов будет получать на разряд выше?
— А потому, что тебя не спрашивают…
— Но ведь спросили.
— Не тебя, поскольку тебе еще пуд соли надо сожрать в тайге, чтобы слово свое иметь. Без году неделя в лесу, а туда же…
— Я ведь тоже человек.
— А коль человек, пошел к едрене фене из бригады! Мне глотов не надо, — вдруг заорал Ефимов, и шеи его побагровела. — Марш отсюдова! Мышь ты приблудная! Я зачем тебя в бригаду взял?! Чтобы ты глотку тут рвал?! Как придут с продуктами с базы, марш отсюдова! — кричал Ефимов, а ребята вокруг молчали, потупив глаза, а кто-то даже и головой согласно кивал.
День Копырев не работал, помогал на кухне повару. Вечером кто-то из ребят сказал: «Брось, батя, плетью обуха не перешибешь. Иди попроси наряд у Ефимова на завтра».
И Копырев пошел и попросил:
— Дайте мне на завтра наряд, Сергей Петрович.
— А что тебе, на кухне не климат? Ну ладно, Ефимов зла не помнит. До обеда полезешь на сопку, сделаешь расчистку, а после обеда будешь рыть ямы под фундамент.
И, зевнув, полез к себе в палатку.
— Иль недоволен? — спросил, укладываясь там. — Принеси-ка воды мне попить.
— Доволен… Спасибо, — сказал Копырев и пошел на кухню за водой…
Копырев зачистил до ледяного блеска дно шурфа, мерзлота тут проступала одним монолитом, нарубил сушняку, хворосту, спустил все это в яму, придавил сверху тяжелой сухой плашкой и, запалив берестяной факел, сунул его под сушняк. Сушняк занялся быстро, а Копырев еще некоторое время повозился вокруг ямы, обложив ее бруствером.
Солнце напоролось на острые верхушки тайги и стало быстро оплывать за горизонт. Там, где расположился бригадный лагерь, тайга окунулась в белесую мягкую муть, но тут, на сопке, солнце все еще золотило горячие травы, жарко поблескивало смолами на стволах лиственок, пекло и без того нагоревшую за день кожу.
Копырев отрыл уже штыка на три новый шурф, когда снизу позвали на ужин. Повар нещадно лупил в дно ведерка, и этот звук гулко летел по тайге. Проверив для верности еще раз пожиг — огонь горел ровно и без искр, Копырев спустился в лагерь.
— Как дела? — спросил Ефимов, он уже отужинал и теперь, ковыряя острой щепочкой в зубах, сидел подле своей палатки. Перед ним на перевернутом ящике стояла кружка крепкого чая.
— Начал вторую ямку.
— А как первая? Пожиг-то нормальный?
— Нормальный, — думая о том, что малый огонь не отогреет мерзлоту, ответил Копырев.
— Ну гляди, парень! Тебе жить. Гляди, не отожжешь землю, всей бригаде страдать. После ужина бревна пойдешь таскать.
— А как же пожиг?
— Так он же у тебя нормальный. А коли что — сходишь перед сном, подбросишь дровишек…
Бригада работала и после ужина, до шести утра, потом все горячее время дня спали и начинали работать снова в шесть вечера. После ужина, развалившись на все еще горячей от зноя земле, отдыхали, дымя махоркой.
Саша Анкулов — рабочий из местных авлаканских жителей — рассказывал:
— Пошли мы коней с папаней в тайгу искать. Убегли кони-то. С нами собачонок малый увился. Идем налегке, след ищем. Вдруг собачонок гав-гав да гав-гав. Папаня говорит: «Не иначе зверя нашел». И сам топор из-за пояса тянет. Папаша у меня лихой, ничо ему в жизни не страшно! Идем на лай. А уже захолодало, и порошка малая прошла — лай далеко слышен. Вышли мы на него. И, ой-бой, берлог. В берлог собачонок лает. «А ну, Шурка, стежки руби», кричит папаня. «Зачем?» — «Как зачем, добывать медведя будем». — «Да у нас, папаня, и ружа нету». — «Руби, говорю, стежки». Я рублю, папаня стежки в берлог пускает, а медведь их на себя имат. Это и надо папане. Заложил берлогу, встал над ее устьем и кричит: «Руби, Шурка, шатину!» Это такой стежок, потоньше тех, коими берлог-то закладывали, им надо медведя тревожить. Сунул шатиной в него и давай нашатывать — шкуру на тот стежок наматывать, да его же этим стежком теребить. Нашатывал, нашатывал я медведя, да вдруг как меня ахнет по темечку-то, я с ног долой. Это медведь шатпну переломил, рассерчал, из берлога бросился, а мне сказалось, что он меня лапищей ахнул. Поднимаюся с земли, за голову схватился и в деревья. «А-ай-ай!» Там опомнился, глянул, папаня над устьем берложьим стоит, смеется: «Ты чо, паря, одурел? От кого прячешься?» — «Где медведь?» — говорю. «Так в берлоге». — «Я ж сам видел, как он выпрыгнул». — «Выпрыгнул, — говорит папаня, — да в обрат запрыгнул». Я подошел к папане, гляжу — топор у него до самых рук в крови. «А ну, Шурка, еще пошатай-ка». Я стежок в берлогу. Медведь его не берет; и так и сяк кручу, дергаю, чувствую, что шерсть с него рву, не берет он стежка. «А ну, запускай, Шурка, собачонка в берлогу, пусть потешится».
— Это что же, отец твой медведя топором уложил, что ли?
— Ага. Поймал момент и ахнул, — дернул носом рассказчик и потянулся прикурить к Копыреву. — Дай, батя, огоньку.
— Ай-яй-яй, как совсем некорошо, — сказал каюр Авачан. Он неслышно подошел к ребятам во время рассказа, да так и слушал в сторонке, приложив к уху сухонькую, с крупными суставами ладошку, и покачивал головой.
— Что нехорошо, Авачан? — Ефимов, равнодушно слушавший рассказ, приподнялся. — Ты откуда взялся-то?
— Плохо, началнык, зверя так бить. Зачем? На берлога амикан спал. Кого трогал? Кому мешал?
— А как же ты его сам стреляешь, да еще когда жрешь, говоришь, что-де русский убил? — засмеялся Ефимов.
— Не так это, не так, — покачал головою Авачан, и седенькая косичка на его затылке затрепыхалась.
Вокруг зашумели, здороваясь с Авачаном, повскакивали с мест, окружили разом.
— Авачан, письма привез?
— Привез, привез, — широко улыбался эвенк.
— Я тебе ниток наказывал привезти, привез?
— Привез, привез…
— Что мне есть? — Ефимов раздвинул ребят, подошел к Авачану, сильно пожал его руку, так, что старик сморщился.
— Привез, привез. Тебе баба твой посылка привез.
— А где ж аргиш-то?.. Где олени?
— Степа Почогир гонит. Вот они, — старик приложил ладошку к уху. — Слышишь?
Все затихли. Из тайги доносился мерный перезвон колокольчика, да покрикивал где-то на оленей Степа.
Большой аргиш пришел в лагерь геодезистов с продуктами. Копырев в утайку, сторожась, глянул на Ефимова, не вспомнит ли угрозу, не отправит ли из бригады? Нет, Ефимов, довольно потирая руки, смеялся и что-то говорил Авачану, а тот согласно кивал головою — был он рядом с грузным, большеголовым начальником похож на худенького подростка, который так, смеха ради, натянул на голову седенький парик.
«Неужели отправит? — снова подумал Копырев. И сердце его сжалось от недоброго предчувствия. — Ну да ладно, сейчас бревна потаскаю, потом пойду к ямам. Малый огонь мерзлоту не возьмет. Черт с ним, чего спорю-то! Наломаю полную яму — к новой смене выжжет мерзлоту огонь…»
…Белая ночь легла вокруг. Большая луна медленно выплыла из-за горизонта. Повисла над кромкой лесов, неправдоподобно красивая в белом небе. Душным сладким запахом потянуло от реки Чоки, заплутавшейся средь густых зарослей шиповника. Оранжевым, словно бы потаенным цветом запламенели жарки. Лунный свет, незаметный в ночи, вернул миру цвета и краски.
Странная колдовская сила заключена в белой ночи. Этот незримый лунный свет, эти словно подглядывающие за всем глаза цветов, и этот сладковато-дурманящий запах шиповника — все от тайной силы тайги, все от колдовской силы белой ночи.
Не спится земле в белую ночь, не спится. Гудит тайга комариным гудом, так что кажется, гудит само небо набатным глухим гулом. Прошелестели верхушки сосен, роняя малые хвоинки, — сторожко прошла по верхам белка; мягко, совсем неслышным шагом пробежал соболь, вынюхивая добычу, и вышел будто бы с ленцой вразвалочку в духмяные заросли шиповника вылинявший, уже в чистом подшерстке, медведь. Сладко сощурился, потянул ноздрями воздух, оголил белые десны и желтые острые зубы, то ли зевнул, то ли улыбнулся, ткнулся мордой в цветущие заросли и замер, довольно урча.
В лагере белым пламенем горят костры, белым дымом дымят дымокуры, и олени, тоже белые в ночи, прилегли к чадящим кострам, смаргивают с теплых глаз уже напившихся крови комаров. Вожак — учаг — трется мягкой губой о бок важенки-молодухи, и та, чуть кося глазом, вздрагивает, и по ее шее, морщиня кожу, пробегает дрожь. А на востоке, там, где еще не отгорела вечерняя заря, уже занимается, растет и ширится новая, утренняя.
Спит, забравшись под марлевый полог, Ефимов, на лице его бродит самодовольная, сытая улыбка, — мастер приложился на сон грядущий к жениной посылке.