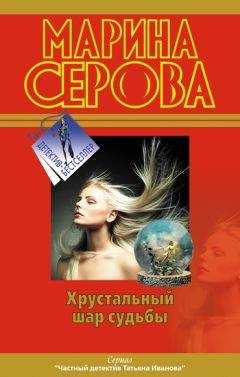Николай Иванов - Разговор с незнакомкой
А вернулись домой, я уж, считай, поселился в ее читальне, «красным домом» мы ее называли, клуба еще не было в ту пору в нашей округе. За полночь, бывало, сидим. И все говорим, говорим… Об электричестве и не мечтали еще, при семилинейке, лампочке керосиновой, сидели, а то и при лучине. И какие только разговоры не ходили про нас — нет, ничего не пристало. Такова была Настенька… Посмотрит перед собой, окинет взглядом всех, глубоким, пронзительным, чистым, — самые лютые, самые настырные очи долу опускали. Благодаря ей я к книгам потянулся, к учебе. Сельхозтехникум кончил… перед войной в Тимирязевку поступал. Не вышло, правда, тогда у меня с учебой, время тяжелое было… В институте доучивался уже после войны, заочно, работая агрономом. И в общем-то, житель я сельский, доктор. Как послали в двадцатом на продразверстку, так и осел там. Это мы уж с Санькой здесь время коротали, после того как ее не стало. Дважды я ее терял, доктор…
Подайте, пожалуйста, кружечку… да-да, вот ту, эмалированную. Спасибо… В двадцать шестом ее избрали у нас секретарем, и снова она попала на съезд в Москву, теперь уже без меня, правда, одна. Это был март, самая распутица у нас… Не договаривались, что я ее встречать буду, у меня как раз дальняя поездка была, связанная с предстоящей посевной. И, верите, как чувствовал, освободился раньше на сутки… Лошадей гнал не щадя, к поезду хотел поспеть, да опоздал… В полдень попал домой, а поезд-то утром был, раз в двое суток ходил он тогда через нашу станцию. Все сроки прошли, а Настеньки нет. Кинулся тогда я, не помня себя, полураздетый через поле. А подморозило с утра-то, гололед, бегу, спотыкаюсь, и одна мысль только в голове бьется: «Катанки-то, катанки надо было прихватить, пообморозится ведь — в ботиках уезжала, по талому снегу…» Миновал поле, выбегаю на пригорок, сосна там еще стояла, молнией обожженная… Под сосной, вижу… лежит она, голову руками в рукавичках вязаных прикрыла, а под ней снег красный и твердый, как камень. Упал я рядом с нею, расстегнул шубку, припал ухом к груди, к губам ее, и показалось мне, дышит еще, легонько так, едва-едва… Нет, не помню, как тогда оказался на станции с Настенькой на руках, не помню… Вот тогда-то я едва не потерял ее, на волоске была жизнь, доктор. Прострелено легкое навылет, потеря крови и вдобавок ко всему — двусторонняя пневмония. В это нелегко поверить, но она выжила. Две недели в беспамятстве и потом еще два месяца в постели. Приоткроет глаза буквально на секунду и шепчет сухими губами: «Я выживу, Никита, я не оставлю тебя».
Один из братьев Русаковых, сосланных на Соловки в свое время, прошел в те дни по нашей округе. Узкоглазый, широкоскулый, жирный, разъевшийся на дармовых сладких хлебах, да и прозвище-то у него было точное — Батый. Трое их было, братьев, самые богатые люди в округе — две мельницы держали, конезавод, батраков не счесть. А уцелел один Батый, добрался до нас и действительно как Батый прошел: крупорушку-мельницу сжег, бывшую отцову, коней потравил, Настеньку выследил, зло свое на ней выместил. Не взяли его тогда, канул в бездну, можно сказать, с концами… Но увидеть его мне еще довелось однажды. Под Кенигсбергом, на глухом полустанке двое суток мы ждали особого распоряжения. Вышел я на рассвете покурить, гляжу, на медленном, черепашьем ходу ползет эшелон… Последний вагон-теплушка с решетками, за ними серые, щетинистые, как у волков, лица штрафбатовцев, глаза Батыя, как раскаленные угли, вперившиеся в меня… Долго еще потом меня жег этот взгляд.
Верите, доктор, жизнь мы с Настенькой прожили будто на одном дыхании, точно речку вместе переплыли. Да не широка показалась речка-то… В последние дни, как чувствовал, глаз не мог отвести от нее. Делает она что-то в сторонке или, устав, приляжет, прикроет глаза, а я украдкой смотрю и смотрю на нее, худенькая она, высохшая, а такой молодой еще мне кажется… Да и в самом деле — одна лишь прядка седая и была у нее всего, а так бы еще жить да жить, если бы не пуля вражья, если б не война, если б не отдавала она Саньке-несмышленышу весь хлеб до крошки, не голодала бы… И слова ее последние, как молитва, горят в памяти моей. Прости, говорит, Никита, клялась не оставлять тебя, но не по своей воле разлучаюсь теперь с тобой…
А вы что-то все записываете?.. Неужто история болезни моя такая… пространная? Бросьте, доктор, не стоит хлопот… Вот хочу полюбопытствовать… а вам-то который годок?.. Тридцать семь? Да-а… доктор, сколько у вас еще впереди! Это я не из зависти, нет… Я свое прожил и, в общем, всем доволен, всем. Да и куда мне, я же ведь долгожитель в европейских масштабах… А вот вам, милый доктор, вашему поколению повезло больше других. Улыбаетесь, а еще не знаете, что я имею в виду. Когда человек переступает порог века — это чудо, которое бывает раз в сто лет, согласны? Ну а если он переступает грань тысячелетия?.. Подумать только, вы будете жить не просто в следующем веке, по и в другом тысячелетии. А что там, за тем порогом, за гранью той? И сбудутся ли всякие — библейские и не библейские — предсказания… Ну, ладно, утомил я вас, простите старика. Что вы спросили? В настоящий момент что беспокоит? А ничего. К тому, что я вам сказал, ничего прибавить не могу. Отвыкаю жить. Это тоже необходимо. Место на земле, как и должности, время от времени надо уступать. О-о, слышите, соседка вернулась. Ну, будет мне сейчас на орехи, опять отвар ее не выпил… Подайте-ка мне скорей вот ту кружечку… Да-да, фарфоровую. Спасибо… спасибо вам за все…
ЖУРАВЛИ
Мой школьный друг заехал ко мне. Володька Сычев. Пожалуй, лет десять не виделись с ним, не меньше. После школы мы вдвоем с ним покатили в Сибирь на целину и уже оттуда — попали в армию. Ну, а потом, как говорится, разошлись, как в море корабли. А о кораблях-то, о дальних странах, мы с ним крепко мечтали в юные годы. И, надо сказать, его мечты сбылись. Попал он во флот, обошел многие наши и не наши воды, побывал в дальних странах. Начинал простым матросом, стал — первым помощником капитана. И теперь который год уже бороздит воды Атлантики, «рыбалкой» занимается, как говорит он сам, — по высокому государственному счету.
Многое успел услышать я от него о разных морях и океанах. А в один из жарких июльских дней сам затянул его на наше Московское море — в Химки.
Точно в важных морских портах, снуют здесь большие и малые суда. Ветер, пружиня, наполняет разноцветные паруса спортивных яхт и проносит мимо нас весь цветовой спектр. Стремительная «ракета», оставляя широкий след за собой, посылает нам волну. Наш кораблик плавно переваливается через нее. Совсем близко, у кормы, чайки припадают к воде и, едва коснувшись ее, уносятся ввысь. Глядя на них, Володька вспоминает другое море. И птиц других… С его слов я и передаю этот рассказ, изменив фамилии героев.
То море кипело, неистовствовало. Ветер срывал с грохотавших бурунов темную едкую пену и вихрем подымал вверх. Сплошной стеной, гигантской дымовой завесой, перекатываясь, неслась над судном лавина колючего тумана.
Тяжело было машинам на судне в это время. Трудно было людям. Много дней и ночей провели они в море, выслеживая рыбу и набивая ею трюмовые закрома. И теперь загруженное судно, борясь со штормом, пробивалось в порт.
…Шторм почти утих, когда вахтенный матрос Гайда сворачивал набухшие листы брезента, собирал противопожарный инвентарь, в беспорядке разбросанный стихией по палубе. С досадой думал он, что заштормило перед самой бухтой и долгожданный отдых оттянулся так нелепо и неожиданно. Плавал он не первый год, военная служба его проходила тоже на море, привык ко всякому и, наверное, как все моряки, приносил на берег усталость, тоску по домам, деревьям и вообще по всему сущему и земному, чтобы, чуть пообвыкнув, снова потянуться к воде.
Разогнув затекшую спину, Гайда посмотрел вверх. Бурое небо светлело, и уже можно было разглядеть в клочковатые полыньи среди туч неровные косяки птиц, низко пролетающих над судном. Уставшие стаи не выдерживали строя. Гайда долго, до рези в глазах, смотрел вслед птицам — и вдруг увидел, как последняя пара, отстав и теряя скорость, стала снижаться к воде. Вот она медленно, точно в бреющем полете, спланировала над судном и опустилась прямо ему под ноги, заскрежетав по мокрой палубе распахнутыми крыльями и скользя по ней, пока не потеряла инерцию. Отступив на шаг-другой, чтобы не вспугнуть птиц, Гайда присел на корточки. Это были два журавля. Нахохлившиеся, длинноногие, они жались друг к другу и беспомощно смотрели в глаза человека. А человек, видно, растерялся не меньше их, так и сидел он перед ними, замерев и боясь пошевелиться.
Гайде приходилось слышать, что обессилевшие в долгом полете птицы порой забывают о страхе и делают передышку на борту первого попавшегося судна. Случай не столь редкий. Но сам он наблюдал такое впервые. Зачарованный, он не мог отвести взгляда от птиц. Что-то знакомое-знакомое почудилось ему вдруг в этой пепельно-серой голенастой чете. И ему вспомнились журавлики его детства… То было в родном Полесье, в лесной деревушке Гребеньки. Босоногим мальчишкой он бегал каждое утро по тропинке к сонному, заросшему тиной болотцу. Бегал проверять, не улетели ли еще журавли. Он подкрадывался совсем близко и на расстоянии нескольких шагов рассматривал их. И журавли не боялись его, доверяли… По осени же, когда они собирались в стаи, он приходил прощаться. И подолгу потом стоял у околицы, вслушиваясь в гортанные позывные, манившие его за собой, и провожал взглядом серебристые пунктиры живых треугольников.