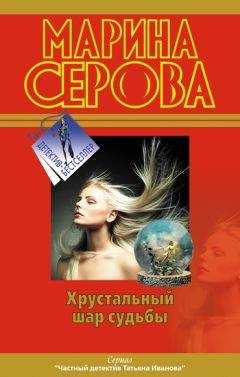Николай Иванов - Разговор с незнакомкой
В ее жилище было светло и уютно: в углу, возле постели горел, чуть подрагивая, светильник из кусочка гнилого пня. Цикада провела кузнечика к пушистому коврику, сплетенному из молодого зеленого пырея, и зажгла еще несколько фонариков. Он попросил ее спеть… Долго звучали тогда ее песни — и когда миновала полночь, и когда стали бледнеть и гаснуть звезды на небе.
…Кузнечик пришел к ней и на второй вечер, и на третий. Вскоре они стали жить вместе. В доме звучали песни, горели веселые фонарики, и кузнечику казалось, что он очень счастлив.
Но прошло время. И песни перестали его радовать. И цикада не была уже с ним нежна, как прежде. Кузнечик мучительно думал о том, что же произошло. Почему песни цикады, красивые, пронзительные, так щемящие душу прежде, звучат иначе. И почему цикада, его цикада, не любит его так, как когда-то. Долго искал он ответа и не мог найти. И только потом, когда прошло еще много времени и он уже перестал быть молодым, кузнечик понял, что прекраснее всего пела цикада самый первый раз, когда он не был знаком с ней. Но тогда ведь она пела не для него…
В сумерках я подхожу к дому Славки. На бревнышках у палисадника сидит паренек. Лет, наверное, четырех-пяти мальчуган. Белоголовый, курносый, и моргает, моргает голубыми своими глазенками — застеснялся.
И я узнаю в нем Славку.
— Ты Дима? — спрашиваю, присаживаясь перед ним на корточки.
— Дима-а…
«Эх, Димка, Димка… — мысленно спохватываюсь я. — Вот и перед тобой я оплошал, даже игрушку не привез тебе, а надо бы самую лучшую выбрать. Все — кувырком…»
— Дядя… — тихонько, чуть ли не шепотом выжимает он из себя, — ты правда из Москвы?..
— Из Москвы, Дим.
— И дедушку Ленина видел?
— Видел, Дима, в Мавзолее. Давно, правда, уже…
— И Кремль?
— Конечно.
— А какой он, Кремль, красный?
— Не совсем. Скорее — красно-коричневый. Старинный. И очень красивый. Такого ни в одной стране нет…
И тут что-то защемило мне душу. Да так защемило — чуть не до слез. Было уже когда-то все это. Было… И августовский вечер, и горка бревен у этого же палисадника, и разговор о Москве. Мне тринадцать лет. Я сижу на бревнах и распутываю леску, поджидая Славку.
— Мальчик! — слышу вдруг, кто-то зовет меня от дороги. Поднимаю голову и вижу девчонку. Золотоволосая, стройненькая, в белых носочках, — все это, точно фотография, навек отпечаталось в моих глазах, — она стоит у обочины и рассматривает меня.
— Как тебя зовут? — спрашивает она, подходя ближе.
— Коська…
— А меня — Тамара. А фамилия Евстратова. В школе меня зовут Фридрих Ева. У нас у всех какие-нибудь прозвища. Генку Солдатова например, зовут Генрих Солдат…
— Это где ж?..
— В Москве.
— В Москве-е?!
— Ну да. Я сегодня утром приехала с бабушкой. Мы все каникулы будем здесь. У ее родственников, у Акимовых в общем…
— А не врешь?
— Вот уж! — вспыхнула она.
Я хорошо знал дядю Лешу Акимова, совхозного бригадира, но никогда не предполагал, что к нему может кто-то приехать из самой Москвы.
— Надо же, из Москвы… — потупился я, окончательно запутывая леску.
— Ты «Двух капитанов» читал?
— Не до конца. Сеструха увезла в городскою библиотеку, а в нашей нет. Мировая книжка!
— Ну так я тебе дам, я привезла с собой. А потом будем играть в «двух капитанов», идет?
— Как это играть?
— Я буду Катя, а ты… — она оглядела меня с ног до головы оценивающе, — ну, а ты, само собой, — Саня.
— А Славка?
— Какой еще Славка?
Я кивнул на забор. Там в огороде выкапывал червяков для рыбалки Славка.
— Ну… Славка пусть будет Ромашкой.
— Не-е… он не такой.
— Ну так кем же ему быть? Пусть будет Валей Жуковым. Он животных любит?
— Любит. И цветы он любит сажать, вон, гляди, сколь под окном вырастил…
Так я встретил свою первую любовь. Напрочь была заброшена рыбалка, городки и все остальные мальчишеские забавы. Мы играли в «двух капитанов», мы играли в «дальние страны», в «путешествия», мы разыгрывали необыкновеннейшие приключения в джунглях, благо роща была неподалеку — за озером. Но самое главное — со слов маленькой москвички я впервые узнал и полюбил Москву.
Как же горьки были мои тайные слезы, когда она уехала. В тот день мать, как на грех, увезла меня в город. Надо было покупать обновки к школе. И я не смог даже проститься с нею, записать ее адрес. Не смог я и превозмочь себя, попросить адрес у ее родственников, которые, кстати, вскоре уехали из совхоза.
Где ты, отчаянная златокудрая девчонка, королева моего детства? А ведь ходим сейчас по одним улицам, ездим в одних вагонах метро. И, может быть, очень часто проходим мимо друг друга.
…— А я-то слышу, кто тут беседы беседует… — скрипнув калиткой, со двора вышел дядя Петя, в самотканой старинной рубахе, в мягких хромовых сапогах, в углу рта его дымилась газетная самокрутка. — Димк, ты что же гостя в избу-то не ведешь? А ну пошли-пошли…
Через несколько минут мы сидели в передней, или в горнице, как называют здесь самую большую комнату дома.
Знакомая мне с детства, потемневшая и отполированная временем столешница заставлена закусками. И тетя Клава, мать Славки, казавшаяся когда-то мне самой молодой из наших матерей, а теперь седенькая, похудевшая, все ставит и ставит на стол тарелки, вазы, розетки.
— Ну, будем… — поднимает наконец дядя Петя стакан с темной, настоящего вишневого цвета настойкой.
Мы выпиваем. Тетя Клава, смочив губы, отставляет стаканчик, подперев ладонями подбородок, грустно рассматривает меня.
— Время-то, время мчит… — вздыхает она. — Давно ли вы со Славкой в сараюшке ночевали у нас? Будто вчера… — она тут же спохватывается, пододвигает ко мне тарелки, вазу с пирожками.
— Ты кушай, кушай ты. Счас Юля придет, она за огурчиками пошла на дальний огород, там-то посвежее у нас, мураши. Огурчиков подрежу, ты кушай. — Согнутым мизинцем она убрала из уголка глаза слезинку.
Послышалось, как за окнами резко затормозила машина, и сразу же раздался протяжный трубный сигнал. Тетя Клава поднялась, отодвинула тюлевую занавеску на окне. Но стучали уже в дверь.
— Хозяева! — окликнул через мгновение от порога громкий грудной голос. — Говорят, у вас здесь гость заморский. Подавайте его нам! Да и сами собирайтесь, карета подана…
— Ну, все… — сник было дядя Петя. — Теперь уж ты не отвертишься — свадьба.
— Дядь Петь, я того… что-то не могу один, стесняюсь. Давай-ка — вместе…
— А что! — встрепенулся он, приглаживая на затылке волосы. — Вот только старуху уговорить…
Столы были расставлены в саду, прямо под яблонями. На яблонях же были укреплены мощные электрические лампочки, освещавшие застолицу.
Свадьба звенела уже не первый час. Уже откричали многократное «горько». Уже и невеста отсела от жениха и что-то нашептывала подружке, на виду у всех подкрашивая синей тушью ресницы. А жених, грузный лысый мужчина с брюшком, оставшись на месте и степенно покуривая, разглядывал гостей.
Гости же, точно забыв о первопричине праздника своего, расселись кучками, шумели, веселились, кто как мог, громко обсуждая в каждом уголке свое.
А меня все толкал в бок локтем захмелевший Саня Соболев и спрашивал:
— Помнишь, как на танцы-то ходили на Центральное? И-ех! Было! А помнишь, как раньше, а? Выпьешь сто грамм — и тебе весь вечер хорошо! А теперь? И-ех!
Потеснив легонько, сел между нами Василий Федорович Соболев, его отец, сменивший в свое время в совхозе дядю Никиту, а теперь персональный пенсионер.
— Ну как там жизнь, в столице-то? — спросил он, обняв меня одной рукой. И, не дождавшись ответа, продолжал: — А кино-то твое глядели мы, глядели, как же… Да что-то сурьезны больно картины-то, и не про нашу жизнь. А смешную, как «Волга-Волга», не умеешь, что ли, признайся честно?
Я открыл было рот, но и тут он не дал мне ответить.
— Ну ладно-ладно, это я так… Ты вот что скажи мне: Гагарина видел?
— Видел, Василий Федорович, и поговорить довелось с ним.
— М-да… Сокол был, как же. А красивый какой! И ведь наш! Учился он здесь и летал. Давай за него, а? — Он пододвинул мне стаканчик, взял себе, но тут же отставил стопку к середине стола и поднялся. — Не будем красное, чернила-то эти. Счас я беленькой принесу…
— Во… дядь Вась, есть… — опередил его Сашка Малышкин, мой однокашник, женившийся когда-то на голубоглазой сельской красавице Томке — Славкиной сестре. Он протянул нам через стол бутылку «Столичной» и, когда Василий Федорович разлил водку по граненым стопкам, со вздохом произнес:
— Ну, поехали… как сказал Гагарин.
Я стою, прижавшись к тяжелой сучкастой калитке, и сжимаю рукой прохладное кольцо запора.
Звезды, недавно сверкавшие на середине неба, теперь светятся раскаленными угольками где-то у его края.