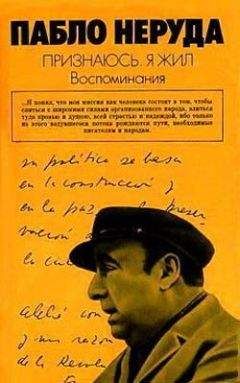Журнал «Юность» - Юность, 1974-8
Я, можно сказать, не пью, если не считать двух рюмок в каких-то торжественных случаях. Но с этим дело было сложнее.
В народе живет правило: о мертвых плохо не говорят. Об отце тем более. Но ради благой цели я это правило нарушу. Пусть он простит меня.
Отец мой рано овдовел, во второй раз не женился, и его личная жизнь пошла кувырком — он стал все больше и больше пить и по поводам и без оных. И когда я смотрю на знаменитую картину Перова «Сельский крестный ход на пасхе», вижу и еле держащегося на ногах, оплывшего от частых угощений лохматого попика, и перевернутую кверху ногами икону, и валяющегося под крыльцол1 совсем пьяного «крестоносца» — всю эту смесь религиозного ханжества и элементарного человеческого свинства, я живо представляю за всем этим знакомые былые картины нашей «приходской» жизни.
Нет, за все за это я не мог быть благодарен отцу, все это меня сначала огорчало, потом возмущало и вызывало протест и все больше и больше обострявшиеся и углублявшиеся конфликты. Но об этом — дальше, а сейчас о водке. Из своего дальнейшего, уже писательского опыта я заметил, что эта зараза действует двояко: одних она завлекает, других отталкивает. На меня это подействовало именно так: мне становилось и в конце концов стало так противно, что я с трудом переношу самый запах спиртного.
Ну, а уж если я не пощадил отца, не пощажу и себя: был грех, я украл у него пять рублей, я их сейчас помню — маленький золотой кружочек чуть побольше теперешней копейки (дело быо давно, до революции, и наряду с бумажными тогда ходили деньги и золотые). Было мне тогда лет пятнадцать-шестнадцать. Как зто получилось, я и сам в точности объяснить не могу. Ну, конечно, соблазны, желание шикнуть, блеснуть, прокатиться на извозчике-«лихаче» с дутыми резиновыми шинами, сходить лишний раз в кино (по-тогдашнему — синематограф), взять билеты в театр обязательно в первый ряд, угостить девочек. В общем — чепуха, соблазны. А деньгами отец меня не баловал, давал на завтраки, на баню и еще кое-что по мелочи, и мне, кстати сказать, рано пришлось давать уроки вплоть до начальника полицейской части, которому нужно было сдавать, к примеру, геометрию для получения очередного чина. И вот захотелось шикнуть по-большому. Обычные ребячьи бредни.
Но главное было не в этом. Главное в том, что отец заметил пропажу и спросил меня:
— Ты не брал у меня деньги?
— Нет, что ты! — ответил я с захолонувшим сердцем.
Отец ничего не сказал на это. Он только посмотрел мне прямо в глаза и отвернулся. И я до сих пор помню и этот поворот головы и этот взгляд.
Из этих пяти рублей прокутил я рубля полтора-два, не больше, на остальные накупил книг.
Теперь о книгах и о всем прочем, что, как мне теперь представляется, и помогло мне «не потерять себя в жизни». Если сказать обобщенно, это интересы, духовные интересы, которые, постепенно углубляясь, приглушали и не давали развиваться разного рода соблазнам и низменным склонностям, присущим человеческой натуре.
Нет, я не хочу впадать в преувеличения и приукрашиваться: было, конечно, разное — был цирк, и французская борьба в нем, которой я очень увлекался, были танцы — и вальс и огненная мазурка, которым обучал нес стройный, и «кавалеристый», и даже «ухажористый», как мы о нем говорили, старичок, был Нат Пинкертон, «гений» американского детектива, был городской сад с военным оркестром и разношерстной гуляющей публикой, и, конечно, были гимназистки, предмет тайных, хотя и не очень ясных мечтаний.
Но внутри всей этой гущи, а то и шелухи жизни продолжали расти те основные, определяющие «кристаллы», которые завершали формирование «друзы», — накапливание знаний, возникновение проблем. диктуемых возрастом, жизнью и временем, и какие-то попытки их самостоятельных решений и поисков жизненных путей.
Я никогда и никак не думал быть писателем, хотя скрытые побуждения к этому прорывались сами собой. Для рукописного ученического журнала, помню, я написал рассказ «Муха» — о чем, не знаю и, кроме заглавия, ничего не помню; знаю только, что среди гимназисток мои акции тогда основательно поднялись. Мне было 13 лет, когда в 1912 году праздновалось столетие Бородинской битвы и я написал пьесу «1812 год», в которой были и Наполеон, и Кутузов, и Бородино. Потом я купил у знакомого букиниста комплект журнала «Низа» за 1904 год и на этой основе хотел писать тоже пьесу о русско-японской войне. Чистое нахальство.
Но ни о каком писательстве я тогда и не думал. Я просто жил и рос, как теперь вижу, и вширь и вглубь. Чем я только не занимался! Я любил астрономию. которую преподавал нам наш директор С. В. Щербаков, друг М. Горького; неплохо, помню, изучил карту звездного неба и привил эту любовь моей сестре Ирине. На камушках, которыми были усеяны берега нашей речушки, я находил отпечатки каких-то древнейших из древних ракушек и занялся геологией и по «Истории Земли» Неймайра, бывшей в библиотеке моего отца, изучал эту историю нашего «шарика». До сих пор помню яркие описания там извержения вулкана Кракатау в Индонезии и возникновения среди моря Монте Нуово, что значит «Новая гора» — у берегов Италии.
По «Определителю растений» Маевского я разбирался в многоцветье наших городенских лугов. Я сдружился с букинистом на толкучке и в те же гимназические годы купил у него «Жизнь растения» Тимирязева, «Происхождение видов» и «Происхождение человека» Дарвина и многое-многое другое. Я слушал лекции об античном искусстве, об убийстве царевича Димитрия и тоже о многом и многом другом.
Что это? Разбросанность? Непостоянство? Может быть. Но в этом не было другого греха, гораздо более страшного, — лености духа. Наоборот, в этом была неутомимая жажда души, стремящейся охватить и впитать в себя все, из чего потом что-то когда-то получится. Это была работа впрок, для себя, рост «друзы».
Этот рост питала и сама эпоха, переживаемое тогда время — война 1914 года, долгая и трудная, с поражениями и непонятностями, с изменами и предательствами, с зловонной распутинской клоакой, поселившейся в самом царском дворце, с бесконечной «министерской чехардой» и с вызываемой всем этим тревогой за судьбы Родины. «Что это? Глупость или измена?» — эти слова, прозвучавшие с трибуны Государственной думы, тревожным набатом отозвались в сердце и заставляли думать и думать. Это было предвестием революции, Февральской революции, свергнувшей самодержавие и ставшей предвестием революции Октябрьской.
А для меня лично была еще одна, принципиальнейшей важности проблема — религия.
Я слишком ясно видел ее оборотную сторону, ее фальшивую мишуру и обман, и чувство совести и справедливости, живущее всегда в юных сердцах, не позволяло мне с этим мириться. Это — первое.
Второе — война. На нашем мирном городенском кладбище хоронили солдата, который вернулся после ранения с фронта и умер. И над его могилой кричала и причитала жепа, охватившая руками двух детей Я все это видел, и слышал, и спросил себя и господа бога: как это ои допустил, он, которого религия называет исемудрым, и всеблагим, н всесильным? Зачем? Почему? «Самодержец мира, ты не прав!»— сказал я тогда себс почти слоеэми популярного тогда стихотворения.
И третье — литература, наша великая, бессмертная русская литература.
Откровенно сказать, меня удивляет и даже тревожит поверхностное, а то и пренебрежительное отношение к ней со стороны какой-то части современной молодежи: «А зачем это нам?.. Зачем Базаров? Зачем Раскольников или Иван Карамазов? Зачем Достоевский? Зачем Толстой или Чехов?» А эти гиганты ставили вопросы, на которых росло и народное и революционное, даже партийное сознание и которые не все еще решены и в наши дни. И мы, юноши того времени, учились на ней мысли и углубленному пониманию жизни — и смысла нашего существования, и патриотизма, и любви к правде, и ненависти ко злу и лжи жизни, и вообще всей гамме высоких человеческих чувств.
А для меня это имею и свое особое значение. Вы представляете жизнь, которая официально зиждется на религии, на этом всемудром и всеблагом боге: он, бог, идея бога, утверждает и освящает и царя, и Распутина, и войну, и убитого отца двух детей, и все прочие мерзости жизни, — и всему этому служит мой отец.
И вот в «Воскресении» Льва Толстого, в его описании богослужения я читаю его разоблачение, разоблачение того, что я видел в натуре, его показную сторону, мишуру и фальшь.
Или: «Я не бога не принимаю… я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять». Это Достоевский, Иван Карамазов. И вот в желтой, уже обтрепанной теперь, но каким-то чудом через полстолетия сохранившейся записной книжечке тех лет я читаю сейчас запись:
«Ну, а если ты сознаешь, что этот «всемудрый» и «всеблагий» есть только камень, за который ты прячешь свою голову? Если ты, веря или желая верить в эту иллюзию, знаешь, что это ложь, выдумка, опять тот же проклятый камень? Тогда-то как же?»