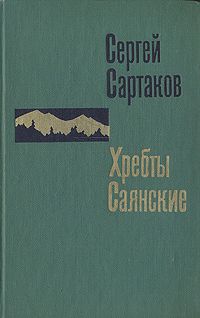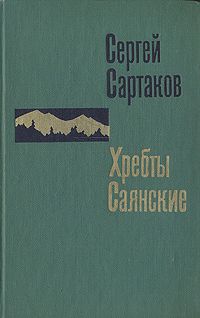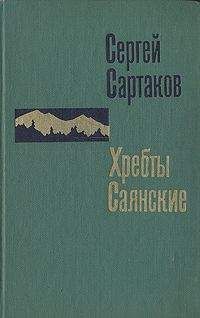Сергей Сартаков - Пробитое пулями знамя
Подряд провалились два конспиративных собрания партийных рабочих.
Перехватили прямо на подножке вагона Стася Динамита, приехавшего с поручением Союзного комитета.
Буткин всю зиму работал на западе: в Омске, в Новониколаевске, в Тайге. После Первого мая он приехал в Красноярск и был арестован на второй же день. Однако его вскоре выпустили, и он укатил в Томск.
Лебедев напряженно ждал известий о Третьем съезде. Из-за границы не было ничего. Лебедев знал, что Арсений уехал на съезд из Питера, Крамольников — из Самары. Ни тот, ни другой ему не написали. А должны были бы. Или письма их попали в руки жандармов, несмотря на самые строжайшие меры предосторожности, какие всегда принимали Крамольников и Арсений, или они и не рискнули доверить бумаге столь важные для партии сообщения.
Потом начали просачиваться разные слухи. Дошел слух, что Крамольников с поручением. Третьего съезда ехал в Сибирь, но был арестован на границе. Пришел другой слух — что Гутовский вернулся, но рассказывает, будто Третий съезд вообще не состоялся.
По-прежнему не утихали жестокие споры большевиков-ленинцев с меньшевиками. В среде рабочих революционный накал все усиливался, и этому в партийных комитетах радовались все — и большевики и меньшевики. Но когда возникал вопрос о конечной цели борьбы, меньшевики яростно кричали: «Да, республика! Но мы должны пойти за буржуазией, мы не должны ее отпугивать. Крестьяне не помощники, а нам самим во главе революции не стать».
В конце мая Лебедев выехал в Шиверск. Вновь созданный после апрельского провала комитет согласился освободить Лебедева от прямой работы в «технике». С уходом Лебедева ответственной за «технику» стала Анюта. А чтобы работа, как и прежде, шла полным ходом, решили, что Мотя останется учиться набору. Поездки по линии с прокламациями теперь поручили другому человеку. Мотя отвезла листовки Мирвольскому в последний раз за несколько дней до отъезда Лебедева. И это был именно тот раз, когда вслед за Мотей в один с пей вагон сел Лакричник, оставив Кирееву свою торжествующую записку.
Лебедев не бывал в Шиверске свыше года. Вообще раньше он чаще ездил повсюду. Тогда не существовало ясного разграничения по районам. Комитеты партии были очень слабы и не всегда могли распоряжаться людьми. Где работать и как работать — решала обстановка и партийная совесть каждого профессионала-революционера. Но по мере того как росла численность местных социал-демократических организаций, устойчивее становились и их связи с порайонными центрами. И если Лебедеву раньше приходилось наезжать в Шиверск представителем то от Томского, то от Иркутского комитета, словом, от любого, который оказывался жизнедеятельным в тот момент, — теперь он поехал от комитета, в орбите которого уже твердо значилась шиверская социал-демократическая организация. Лебедеву поручалось проверить, не разгромлены ли там, не разбрелись ли, не расшатались ли революционные силы. Явку дали ему на квартиру Ивана Мезенцева.
Поезд прибыл перед рассветом. Но майская ночь настолько коротка и быстротекуща, что Лебедев очутился у дома Мезенцевых, когда небо уже стало отбеливаться. Груня открыла дверь, немного испуганная ранним стуком; она с трудом узнала Лебедева, отрастившего себе курчавую бородку и распадающиеся на стороны волосы.
Окна в доме были закрыты на ставни с болтами. Груня хотела зажечь лампу, но Лебедев попросил ее не делать этого. В щели у ставен пробивались узкие белые полосы рассвета, и в комнате стоял реденький полумрак, но достаточный, чтобы видеть все. Словно в сонное царство вступил Лебедев. Равномерно и сладко дышал Саша, с перерывами, усталая, билась об стекло муха, мурлыкала свернувшаяся калачиком на табуретке кошка, и даже Груня стояла, переступая босыми ногами и судорожно позевывая. Лебедеву в вагоне не пришлось сомкнуть глаз. Теплом сонного дома сразу обволокло и его. И когда Груня предложила поставить самовар, он замахал руками:
Зачем? Зачем? Ложитесь, пожалуйста, и спите. А меня простите за беспокойство. И еще просьба: позвольте где-нибудь у вас и мне тоже прилечь.
Груня стала сдергивать со своей кровати простыню, доставать из сундука свежую, глаженую, с кружевным подзором, чтобы приготовить постель Лебедеву. Он решительно воспрепятствовал этому, отобрал ее праздничную простыню и положил на крышку сундука.
Зачем вы это делаете? — с ласковым упреком сказал он ей. — Ложитесь сами на свою постель. А мне дайте что-нибудь только под голову, и я прилягу вот там, на половичке. У вас такая изумительная чистота. А я с дороги весь пропыленный.
Он лег и моментально заснул. А Груня досыпала беспокойно. Но не тревога опасности томила ее — было неловко, что оказалась она плохой хозяйкой и позволила гостю лечь на полу. Груня то дремала, то опять открывала глаза. Наконец поднялась, отомкнула сундук. В нем у нее не осталось почти ничего, все было продано, проедено. Но, кроме простыни с подзором, последней из ее приданого, здесь хранилось еще тонкое пикейное одеяло с нежным голубым рисунком по белому полю. Это одеяло Ваня купил ей в подарок после рождения сына. Груня им застилала постель только в праздники. Теперь она достала его и бережно, чтобы не разбудить, прикрыла спящего гостя. Ушла на кухню и стала готовить завтрак. У нее было немного муки, молоко, в банке хранилось несколько кусков сахара, и Груня решила напечь сладких блинов. Быстро закончив свою стряпню, она взглянула в комнату. Лебедев уже сидел за столом и что-то писал. Груня всплеснула руками:
Господи! А я думала, вы еще отдыхаете. Вам же темно, Егор Иванович.
Отличный свет, — отозвался Лебедев, приподнимая голову, — я превосходно вижу все. А вас попрошу вот о чем: сходите к Порфирию Коронотову и скажите, что я приехал.
Это я мигом, — с готовностью согласилась Груня, — он сейчас уже в багажной. Побежала я. А вы тут кушайте без меня. Извините, что… — она хотела сказать «что так бедно у меня», но закончила по-другому: — что больше ничего я вам не приготовила.
Она повязала голову ситцевым платком, перебрала на кофточке пуговицы, все ли застегнуты, и пошла к двери. Оглянулась на спящего сына.
Вы нисколько не тревожьтесь, Егор Иванович, насчет Саши. Он подолгу спит у меня, я успею вернуться. Да если и встанет, на улицу убежит; мальчишкам не проговорится, он так воспитанный у меня. Понимает. Как же: полных шесть лет человеку! А у меня часто зимой собирались.
Вернулась Груня действительно очень скоро. Вошла со сбитым на плечи платком, пунцовая и чуть запыхавшаяся от быстрой ходьбы.
Ну вот, — весело доложила она, — все я и сделала. Порфирий Гаврилович велел сказать, что после четырех будет ждать вас в березнике за переездом. — Веселое лицо Груни вдруг омрачилось: она заметила, что гость почти не притронулся к напеченным ею блинам, и стала собирать со стола.
Лебедев понял ее. И поспешил поправить дело.
— Вы уже убираете? А мне тут было скучно завтракать одному, — сказал он, подходя к столу. — Мы, может быть, вместе с вами чаю попьем?
И Груня сразу опять просветлела.
За столом не враз, а завязалась у них беседа.
— Василий Иванович, я уж буду звать вас настоящим именем, как-то роднее, а при людях я не проговорюсь, не бойтесь. Вот вы спрашиваете, как я живу. А что сказать? Да если бы на сердце мое поглядеть, оно, наверно, снаружи черепок, а внутри — боль живая. Ведь больше году оно болит и болит, не утихает. Даже ночью нет ему отдыха. Как Ваня уехал, мне светлых снов и не виделось вовсе. Встаю, думаю: «,Жив ли?» Ложусь: «Как он там?» Ведь смерть вокруг них день и ночь с косой ходит. Ох, Василий Иванович! Не дай господи в войну быть женщиной. Им, мужьям нашим, на войне и муки и смерть. А нам здесь муки в сто раз горшие, и вдовой печальной остаться — та же смерть. Только хуже еще: не враз она тебя в землю положит, а исподволь, когда всю душу высушит. Вы подумайте, Василий Иванович, ведь четыре раза Ваня был раненный. А угоди пуля еще на вершок какой-нибудь вбок или ниже? Кресты, медали на грудь ему вешают. Вот за Мукден, за новую рану, еще одну медаль ему выдали. А что нам эти медали, если он вернется калекой? Паше Бурмакину — Ваня писал — дали все четыре «Георгия», а на теле у него от рубцов места живого нет. И как только от смерти бог его бережет? Может, и не бог — любовь Устиньи. Говорю: любовь, а для нее — полынь горькая. Не губы милые, а раны кровавые целовать. Все и счастье. Ради чего оба они расцветали? Ну кому, кому нужно все это горе на людей обрушивать? Вон Василев на Большой улице новый каменный магазин себе строит, говорят, по всей Сибири в каждом городе тоже построит еще, и заводы, а я только заплатки к заплаткам пришиваю…
Они помолчали. Со двора доносилось прилежное, но неумелое мяуканье скворца: ему никак не удавалось скопировать кошку. И тогда он защелкал языком, засвистел и запел по-своему, по-скворчиному, попросту, без. затей. Груня улыбнулась.