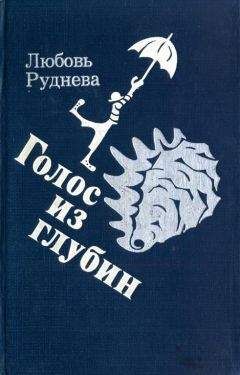Иван Щеголихин - Снега метельные
— Возьми себя в руки, Сергей!— Она прикусила губу, так некстати о руках!—Ты найдешь себе верную подругу в жизни, Сергей, у тебя будут жена, дети, они очень тебя полюбят. Ты мне веришь?
— Эх, Женечка, верю, куда денешься,— смилостивился он.— Всё понимаю, Женечка, всё.— Он осторожно задубевшими пальцами потрогал свои бинты.
— Больно, да?
— Пройдет. Сердце что-то болит... Не по ней, так просто.
— Я сейчас валерьянки дам, тебе надо успокоиться.
Он брезгливо поморщился. Она налила ему все-таки валерьянки, Сергей выпил, осторожно поднялся. Женя легонько, обеими руками коснулась его бинтов, желая помочь, но он отстранился.
— Оставь!
Приподнял руку и, кособочась, вышел из процедурной.
...Почему он, Сергей, во всей этой кутерьме должен оставаться один? Почему ей, как ни крути, меньше других жаль Сергея?
Потому что он — сильный, всё вынесет. На таких мир держится.
Не родись сильным, не будет тебе сострадания, один будешь пить чашу жизни. «Но ведь он не один, у него друзья, Курман прежде всего, у него слава...»
И все равно один. А другие еще и обвиняют его — семью разладить пытался, нарушитель устоев, агрессор, можно сказать. Не лезь, куда не положено. У них семья, законный брак, а у тебя что?
«Любовь — всего-навсего!» — горько усмехнулась Женя... .
Утром, проходя мимо хирургической палаты. Женя опять увидела Хлынова. Он сидел на койке, свесив кудлатую голову. Под белой больничной рубашкой остро обозначились лопатки. Он не слышал шагов Жени, сидел, не шевелясь, неподвижно, скорбно, как сидят ветхие старики, дремлющие на завалинке. Женя вернулась к себе и, глотая слезы (ну, что за жизнь, всех жалко!), вылила в стаканчик остатки спирта и понесла в палату.
— Выпей, Сергей,— шепотом сказала она.— Осталось немного после операции, выпей...
В открытую дверь косо падал свет из коридора. Сергей поднял голову, посмотрел на Женю лихорадочно блестящими глазами.
— Не надо, Женечка, не буду пить,— хрипло выговорил он.— Ни к чему, Женечка.
Неожиданно ласково Женя стала гладить его голову, тихо приговаривая, успокаивая сама себя:
— Ты молодец, Сережа, ты молодец...
Он отвернулся от света, пряча лицо, поднял глаза к окну, глухо погрозил:
— Еще посмотрим! Пройдет пять, пройдет десять лет... Еще посмотрим!
35Прошла неделя, и еще одно разочарование, еще одну утрату пережила Женя. Все ее житье-бытье в Камышном было как бы освещено образом Наташи Ростовой. Женя не торопилась поскорее прочесть книгу до конца, она растягивала наслаждение, по многу раз перечитывала захватывающие места. Ей хотелось расти вместе с Наташей, хотелось, чтобы чтение тянулось долгие годы, и хорошо бы, всю жизнь.
Но вот она подошла к эпилогу. «Теперь часто было видно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно... Все порывы Наташи имели началом потребность иметь семью...»
У Жени тоже будет семья, но как можно жить теперь без тех людей, которых она полюбила здесь, без хирурга, Ирины Михайловны, Малинки, без Хлынова и Курмана?.. Как ей забыть множество встреч, отказать в памяти тем славным людям, которые ей встретились в здешней жизни, одни мимолетно, другие надолго — чернявый шофер в вагоне, он называл ее Крошкой, или тот мальчишка, что так высоко ценил свою голову и экономил для государства горючее?..
Образ Наташи долго сиял для нее теплым светом, и все-таки потускнел. Вот Галя ушла из дома медиков. Так и Наташа Ростова ушла из сердца Жени, изменила ей со своими идеалами столетней давности. Или наоборот, Женя сама изменила Наташе Ростовой, кто знает...
Многих Женя полюбила здесь, и легко называла всех, но почему-то молчала про Николаева, не называла умышленно и, видимо, неспроста.
26
С памятного того вечера Николаев больше не заходил к Жене, но домик медиков и больница всё больше притягивали его. Видимо, уже тогда он на что-то такое понадеялся и, возможно, тогда же принял какое-то, пока не совсем ясное для себя, решение. И теперь в редкую свободную минутку он представлял, как Женя в белом халате, в белой косынке с красным крестиком, ходит в больничной тишине, раздает лекарства, легким нежным прикосновением делает перевязки.
«Надо бы зайти,— думал он.— Когда?» И снова окунался в дела и заботы.
Камышный... Целина... Множество людей, имен, фамилий, и среди них все большее место стала занимать Женя Измайлова. Не сама по себе, а как соучастница в круговерти самых разных дел и событий, стремительно промелькнувших, оставив такой значительный след. Не верилось, что всего два года назад здесь пустовала земля, и ничего не было — ни поселка, ни райкома, ни тракторов, ни миллиарда пудов зерна.
А ведь страна жила и до этого бурной жизнью, и все вроде были заняты неотложным делом, народ залечивал раны после разрушительной войны, всюду требовались рабочие руки.
Но вот партия приняла решение — и сразу отзвук в сердцах сотен тысяч людей, самых молодых, энергичных, трудоспособных. И вот уже страна получила невиданный запас хлеба. Как будто с другой планеты появился этот резерв. Видно, и впрямь энтузиазма, героизма нашему народу не занимать! Поистине человек не знает меры своего могущества.
Зимою здесь тихо текла жизнь в раскиданных по степи редких аулах, деревнях, селах. По ночам брехали собаки, за таявшей в степи околицей выли волки на зеленую от мороза луну. По утрам певуче голосили петухи, мычали телята и барабанио били в подойник тугие молочные струи коров и дойных кобылиц.
А степь оплеталась дикими седыми травами и жила праздно до поры, до времени.
6-го марта 1954-го года вышли газеты с решением Пленума ЦК Компартии Советского Союза. По Алтаю и по Сибири, по немереным степям Казахстана пронеслись отголоски надвигающихся событий. День-другой старожилы поговорили о новостях, а к утру вроде бы стали и забывать, не верилось, что жизнь свернет, да еще так круто, с проторенных, обжитых троп.
Но вскоре дрогнул и загудел от моторов набухший весенний воздух. Машины шли днем и ночью по стеклянному ледку, с хрустом давя звезды в темных степных лиманах. По холодному бездорожью, по занесенным оврагам и балкам двинулись люди. За тракторами вереницей тянулись плуги и сеялки, шли машины с палатками и горючим, с хлебом и маслом, с медикаментами и топливом.
Выбирали место на берегу озера или речки, на большой поляне глушили моторы, и в прозрачной тишине раздавались исторические удары молота — забивали первый колышек с дощечкой и надписью – зерносовхоз такой-то. Появились в глухой степи имена ученых, полководцев, государственных деятелей. Но особенно, пожалуй, повезло писателям. Только на одной Кустанайщине зазвучали имена Лермонтова и Пушкина, Некрасова и Герцена, Чехова, Маяковского, Горького... В степь пришли романтики.
Грохали взрывы, целинники взметали землю в поисках воды. По железным дорогам беспрерывно стучали колеса, беззвучно вздыхали шпалы под змеисто-стремительными составами, и паровоз в белой пене, словно закусив удила, буравил гудками сонную мглу, манил в дальние странствия.
Красные вагоны мчали песню, на открытых платформах неслись зеленые машины, оставляя запахи новой резины и лака. Ехали коммунисты и комсомольцы, директора будущих совхозов и агрономы, землеустроители и гидрогеологи, врачи и акушеры, писатели и кинооператоры...
По всей стране толпилась молодежь в райкомах комсомола. В привокзальных скверах от грома оркестров с деревьев осыпался иней, и слезы матерей высыхали на щеках от улыбок отъезжающих.
Апрель долизывал снег в низинах, тихим граем, солнцем и травами проникался, настаивался высокий простор. Под тягучий звон лемехов, под трескучие разрывы вековечного сплетения трав ложились бархатные русла первых борозд. Белели черепа, вросшие в землю со времен монгольского нашествия, желтые суслики оцепенело воздевали лапки, и волки, поджав хвосты, уходили догонять тишину.
Налетали ураганные ветры, первобытные грозы отдавались в сверкающих лемехах, и полы палаток вздувались, плескались и щелкали, как паруса первооткрывательских кораблей.
После первых борозд зачернели гектары, десятки, сотни, тысячи и наконец миллионы гектаров.
В первый же год на казахстанской целине было собрано 242 миллиона пудов зерна — в 4 раза больше, чем собирали раньше в урожайные годы.
Наступило лето, третье от рождения целины,— и был собран миллиард пудов зерна в Казахстане.
Но вместе с ликованием уже на третьем году здешней жизни стали определяться грозящие целине беды. Ученые настойчиво заговорили об охране почвы, о неизбежности пыльных бурь при неправильной агротехнике. О такой угрозе думали пока самые предусмотрительные и дальновидные.
Так уж повелось в нашей стране — первый успех никогда не бывает последним, он становится нормой. Будут еще не раз миллиарды пудов хлеба на целине, будут новые трудности, но на будущее надо непременно учесть не только радостный итог, но и печальный опыт...