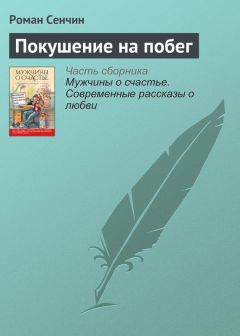Анатолий Калинин - Цыган
— Ты сейчас, Нюра, сказала «какой-то цыган». Раньше я от тебя не слышала таких слов.
— Но ведь он же, мама, так и не захотел ответить на твое письмо.
Против этого Клавдии нечего было возразить. Все это была правда. И если разобраться, как бы ни отбивалась она от всех этих атак собственных детей, где-то в глубине души она вынуждена была согласиться с тем, что по-своему они правы. Нет, не только о своем собственном спокойствии думали они. Выросли ее дети и скоро, конечно, отлетят от нее. А дальше что? За ними она никуда отсюда не поедет. Она всю жизнь здесь прожила и уже не сможет без всего того, к чему привыкла так же, как и к самой себе.
А Нюра, приободренная ее молчанием, уже опять впадала в свой покровительственный тон:
— Ты только не вздыхай. Я же знаю, о чем ты вздыхаешь. Он тебе и на письма не изволит отвечать, а ты тут из-за него должна как в монастыре сидеть. Мы с Ваней уже взрослые, и ты, мама, человек вполне свободный. Теперь двадцатый век.
Вот и опять он в седле. Конечно, не в цыганском, плоском, и не в казачьем с высокой лукой, которое при необходимости могло и за подушку побыть, но так же поскрипывает оно, и так же неотступно скользит сбоку сгорбленная тень. Иногда же в полудреме может почудиться, что и ноги опять упираются в стремена.
И ничего еще подобного не испытывал он: как будто за этими фронтовыми картами и в самом деле надо было признать власть сразу смахнуть с плеч двадцать лет. Опять вернуть в ту пору, когда все еще было впереди, как и эта серая лента, уползающая под колесо назад. Но, оказывается, есть дороги, увлекающие в одно и то же время и вперед и назад, а вернее, в глубь самого себя. Та пора жизни, когда все, что теперь уже безвозвратно осталось за спиной, еще только начинало брезжить перед взором сквозь утренний молодой туман.
Со своими цыганами за это время он почти не встречался, если не считать тех повозок, встречаемых или обгоняемых им на степных дорогах, которые тотчас же и оставались позади его мотоцикла. Чаще же совсем издали виделись его взору их силуэты, крадучись скользящие в стороне от больших шоссе па серой холстине неба.
Но, признаться, и не искал он этих встреч, совсем наоборот. Не очень-то ему хотелось встречаться с теми из соплеменников, которые с недавних пор опять будто с цепи сорвались. А если и не миновать было их, этих грустных встреч, то, еще издали завидев знакомые телеги с трепещущими над ними под ураганным ветром, испещренными заплатами лантухами, а то и не прикрытые ничем, с ворохами тряпья, в котором копошились детишки, он прибавлял скорость, спеша прошмыгнуть мимо. Пока еще кто-нибудь, чего доброго, не окликнул его. Особенно невыносимым было бы для него теперь встретиться с блестящими глазенками этих одетых в грязные лохмотья несмышленышей, полностью подвластных воле своих отцов, матерей и бабок и не ведающих, какая их в будущем может ожидать участь. Как будто они могли заглянуть этими черными глазенками ему прямо в душу и опять разбередить в ней то, что и без этого непереставаемо тлело там, как жар под пеплом.
И что бы он теперь мог сказать своим соплеменникам: что вся эта кочевая жизнь, опять потянувшая их к себе, — это сплошная нужда, обман и в конце концов непереставаемая война со всеми другими людьми, не говоря уже о блюстителях закона? В то время как рядом есть другая, большая жизнь, из которой они исключили себя сами. Но все это они знали и без него. И все же опять выплеснулись на все дороги в степи, едва лишь почудилось им, что под ржавчиной времени уже потерял, утратил свою силу и этот повергший их в трепет Указ, как со временем обычно теряют силу и все другие самые грозные указы. И что бы ему самому пришлось отвечать на их неминуемый встречный вопрос: «А как же это ты сам, Будулай, опять тоже очутился на колесах?»
Нет, уж лучше сразу же, при появлении на горизонте этих печальных телег, переключить скорость и, окутываясь облаком дыма, не взглянув в их сторону, — мимо. Чтобы только промелькнули эти цветные заплаты на мешковине нахлобученных на телеги шатров. Вж-жик — и нет их. Мимо этих черных глазенок, чтобы не успели они царапнуть по сердцу. И чтобы цыганские кони едва успели шарахнуться от его металлического коня, промчавшегося мимо них с ревом.
А там пусть вскакивает во весь рост на телеге цыган и, свирепо ругаясь вдогонку, крутит над головой кнутом. Пусть цыганка от ярости хоть на всю степь визжит, посылая на его голову проклятия.
Но недаром же, кроме обычного, еще и цыганское радио есть. Неизвестно каким образом, опережая мотоцикл Будулая, бежал, катился по степи слух о том одиноком цыгане при полном иконостасе боевых орденов, который то больше всех раздирался за то, чтобы всех сразу цыган на землю посадить, а то вдруг его самого как будто этой самой черной бурей с места сорвало, и он уже никак не может остановиться, колесит и кружит по всем дорогам с утра до ночи.
Но кочует всегда только один-одинешенек и даже чурается своих же цыган, — видать, слишком гордый. Вообще какой-то странный цыган. То пристанет дня на три к какой-нибудь старушке, давно брошенной богом и людьми, залатает ей худую крышу и перекопает весь огород, то побудет при какой-нибудь тракторной бригаде за кузнеца-слесаря или же за водопроводного мастера в детском саду. Но от платы за свою работу наотрез отказывается и даже пол-литрами не берет, довольствуясь тем, что покормят его обедом, — и тут же опять перекидывает ногу через седло своего мотоцикла. Еще не старый, но уже волосьями, как стиляга, оброс. Говорят, он и раньше какой-то чокнутый был. А теперь, слышно, взялся всех своих товарищей, с какими на фронте в казаках служил, объезжать.
И катившееся по степи цыганское радио вдруг заключало: но, может быть, он совсем и не цыган.
Но однажды ему пришлось и перед наглухо запертыми воротами подождать. Что-то слишком рано за ними отходили ко сну хозяева и спали так крепко, что даже и овчарка, давно почуявшая чужого, долго не могла разбудить их своим лаем. Наконец выпущенная из дома в глубине двора, она так и ударилась об забор, встав на дыбки, и Будулай прямо перед собой почувствовал ее дыхание сквозь щели в досках. Вслед за этим услышал он и то, как препирались за воротами два голоса: мужской с женским.
— Ты за своей бухгалтерией в подвале совсем стала глухой.
— А ты бы еще громче храпел. Хоть за ноги выноси.
— И покуда всю эту механику отопрешь, человек может плюнуть и уйти.
— Самостоятельный в такое время не станет по гостям шляться, а кто-нибудь из твоих каплюжников и подождать может.
Кажется, и Будулаю надо было поворачивать обратно. Скорей всего, он так бы и поступил, если бы в эту минуту не заиграли за воротами с тягучим лязгом запоры.
— Вр-рата замка… — сердито бормотал мужской голос.
— Нет, сперва надо узнать… — И не замеченная Будулаем в калитке задвижка отодвинулась у него прямо перед лицом с таким стуком, что он отшатнулся. В проеме форточки забелело лицо:
— Кто?
— Будулай.
— Какой такой Будулай? — подозрительно переспросила женщина.
Но теперь уже мужской голос рявкнул за воротами так, что Будулай сразу же узнал своего фронтового Друга Шелухина.
— Что значит какой?! Да цыц ты! — прикрикнул он на охрипшую от горлового клекота собаку. И под его руками пал последний запор. Женская фигура тут же повернулась и пошла прочь от них в глубь двора, где светились окна дома. — Видал? — впуская Будулая в калитку, спросил его фронтовой друг.
— Нет, так у нас с тобой не пойдет разговор, — решительно заявил он через десять минут, когда они уже сидели вдвоем в комнате за накрытым бархатной красной скатертью столом. — Если хозяйка сама не изволит догадываться, как ей следует фронтового друга своего мужа встречать, значит, мне самому придется нанести ей в ее крепости визит. — Ногой в белом шерстяном носке он глухо постучал по застланному толстым ворсистым ковром полу. — Ты только, Будулай, старайся тут без меня не шевелиться, чтобы на тебе, чего доброго, не захотел попробовать свои клыки этот зверь. Я сейчас вернусь.
И все время, пока он отсутствовал, лежащая в углу комнаты серая овчарка не сводила с Будулая своих узко поставленных глаз. Еще с тех самых пор, когда ему, бывая в разведке, приходилось с такими овчарками дело иметь, не очень внушали ему доверие эти волчьей породы псы. На всякий случай он стал припоминать, как ему, в случае надобности, надо будет повести себя с этим зверем. Тем более что и ждать пришлось довольно долго. Из-под пола той самой комнаты, где сидел Будулай, еще долго доносились до него все те же два сердитых голоса, пока наконец его фронтовой друг Шелухин не появился в дверях с графином красного виноградного вина в руке и с почти столь же красным лицом.
— Как говорится, преодолевая яростное сопротивление противника…. — весело сказал он, ставя графин на стол перед Будулаем. И, тут же, без промедления разливая вино по бокалам, с удивлением покрутил головой — И хоть бы, скажем, магазинное, а то ведь полный подвал своего. Красностоп золотовский, — не без гордости объявил он, поднимая в руке свой бокал. Языком красного пламени плеснулось в нем вино. — За все доброе! — Но тут же голос его и потускнел, когда он поставил пустой бокал на стол. — Хотя и где оно, доброе? Как бывший разведчик, ты сразу должен был увидеть, Будулай, как я живу. — И ногой в домашней вязки носке он опять постучал по застланному ковром полу. — Слышь, булькает… — Из-под пола действительно доносились какие-то булькающие звуки вперемежку с отрывистыми щелчками. — А это она кидает на счетах свой дебет-кредит, — отвечая на взгляд Будулая, пояснил Шелухин. — Теперь почти до утра будет из бочек в баллоны переливать и подсчитывать будущий доход. Ты не шути, у нее, брат, там и раскладушка стоит. Что же ты не пьешь? Все-таки должен же ты моего собственного производства вино оценить.