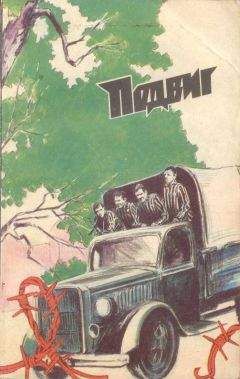Иван Уханов - Свет памяти
Отец онемело замер посреди избы, потом стал бормотать что-то, но мама не слушала и потихоньку подталкивала его к порогу.
Не прошла и неделя, как отец вернулся. В избу мама его не пустила. Целый месяц или более спал он на повети, укрывшись своею старой шинелью с еще уцелевшими погонами сержанта-артиллериста...
«Зачем отец ушел, почему вернулся?» — эти вопросы осели в моей детской душе смутными, непроявленными. И такая же смутная, тяжелая и неизбывная залегла во мне с тех пор неприязнь к Анфисе.
«Гнев — человеческое, злопамятство — дьявольское». Да, да... В брезентовой сумке у меня позвякивает отцовский инструмент печника. Я иду к Анфисе Азаровой...
Красавицей ее назвать было нельзя. Если бы кто-нибудь стал разглядывать в отдельности ее нос, глаза, губы, то вряд ли нашел бы что-либо броское, особенное. Но в сочетании все было ярко, живо, приметно. Особый блеск глаз, легкая гордая походка выдавали какую-то тайную сладкую порочность Анфисы, ее неизрасходованное женское естество. Казалось, она только и жила ради своего лица и тела, от их вида зависели все ее блага и радости.
Теперь она как-то опустилась, была неопрятна. Старость отняла у нее силы и миловидность. Платье висело на ней, как на вешалке. И я с трудом, недоверчиво, почти как давний сон, вспоминал время, когда Анфиса была моложе и сводила с ума мужчин кашей деревни. И моего отца тоже.
Сколько ей теперь лет? Пятьдесят? Шестьдесят?
— Вот и работничек мой!.. А ты проходи, Коля, проходи, студент, — Анфиса радостно встретила меня на крыльце.
Пригнув голову, я нырнул в прохладные сени, затем следом за ней прошел в маленькую темную горницу. Анфиса сдернула с окон какие-то старые платки, которые не пускали в избу солнце и копили прохладу. В комнате посветлело, она вся как бы обнажилась в неприглядном своем запустении: на подоконниках валялись мухи, окна были тусклы от пыли, белизну тюлевых занавесок приглушила копоть. И только высокая пышная кровать с огромными пуховыми подушками и дорогой ковер во всю стену крикливо отстаивали аляповатый уют Анфисиного жилья.
— Вот как дымит-то. Прокоптела я вся в ней. Ты уж извиняй меня, Коля, за беспорядок... Все жду, когда печку наладят. Потом и побелку затею. — Анфиса кружилась по избе, торопливо прибирая ее.
Я снял рубаху и полез на чердак. Труба и кирпичный боров оказались в порядке. Оставалось проверить вентиляцию дымохода, или, как у нас в деревне говорят, тягу.
— Затопить бы печку, — предложил я.
— Ой, что ты! Дымом захлебнемся. — Анфиса замахала руками.
Я вышел во двор, наскреб у сарая охапку старой соломы, вернулся в избу и разжег печь. Белесый дым с минуту копился под сводом, вытягиваясь струйками в трубу, потом заклубился над шестком и вдруг повалил нам в глаза. Ясно: дымоход закрыт. Но где, чем?
— Ну что? — Анфиса взглянула на меня, как на врача.
Я пожал плечами, взял молоточек и стал простукивать грудь печи. При кладке голландки или печи хороший мастер всегда оставляет оконца для чистки. Они замазываются и забеливаются. Найти их можно по звуку. На месте оконцев стенка вдвое тоньше и простукивается звонче. Я быстро отыскал и открыл оконца, обнажив колодца дымоходов. Они густо заросли сажей, щелки не найти.
— Ну, что там? — заглянув в аспидно-черное нутро дымохода, опять спросила Анфиса.
— Чистить надо! — с упреком ответил я и, взглянув на сникшую Анфису, успокаивающе добавил: — Так могло весь дымоход разнести.
— Помню, как с твоим отцом мы эту печь комбинированную стряпали, — помолчав, заговорила Анфиса. — Ох ведь и ловкий был! Кирпичи у него в руках так и летали...
«Нет, я не выдюжу. Анфиса доймет меня этими воспоминаниями», — подумал я и сказал:
— Пойду покурю. А вы пока готовьте комнату. Освободите печку от занавесочек, снимите эти чугуны.
Я вышел с сигаретой во двор и сел на крыльцо, разглядывая свои черные от сажи ладони. «Почему мне невмоготу от Анфисиных воспоминаний? Ведь каждый человек живет воспоминаниями. Прошлого у нас всегда больше, и оно всегда дорого нам. Прошлое — это мы сами, это то, чем мы были, как и из чего делались нынешними. Нельзя любить будущее, оно не пережито и потому не может быть дорогим. У Анфисы впереди старость, печали, хвори, одиночество... А позади — все! Молодость, любовь, красота. Зачем же я сержусь на нее? Пусть вспоминает...»
Я вошел в избу и полез на чердак. Печку надо было разбирать с трубы. Молотком и зубилом я отделял кирпич от кирпича, стараясь не расколоть их. Кирпичи выворачивались вместе с прикипевшей к ним глиной и толстыми наростами сажи.
— Может, это не трогать? — Анфиса ботинком постучала по кирпичному борову.
Боров — горизонтальный отвод трубы, охлаждает дым, гасит искры, оттого и сажи в нем больше, чем в других местах дымохода.
— Приготовьте ведро! — вместо ответа попросил я и вскрыл боров.
— Ох, мамочка! Сажи-то сколько... С виду ровный боровок, побеленный, а снутри гляди-кось. — Анфиса покачала головой. — Так и у людей. Есть такие... Снаружи личико, что куриное яичко, а колупни — тухлятина.
Она принесла ведро и совочком стала выгребать сажу.
— Кабы можно, заглянул бы кто в мою душу. Да вот так же навел порядок, — тихо сказала она.
— А самой лень?
— Самой откуда знать, где у тебя бело, где черно? Сама-то себе хоть какая люба.
Я взглянул на Анфису и не мог не улыбнуться: руки, щеки и нос ее были измазаны сажей. Я тоже небось выглядел чертом. И все вокруг было в саже, на чердаке висела пыльная мгла. Но мне почему-то стало весело. Я понемногу оттаивал, что-то начинало меня сближать с Анфисой.
Она дважды предлагала отобедать, я отказывался: разберем печь, почистим, тогда и руки можно помыть.
— Весь в отца. Степан Савельев в работе такой же сумасшедший был. Не мужик — огонь. Ох!
Согревая себя воспоминаниями, Анфиса улыбалась, приводила в движение и мою память. Я невольно уносился в прошлое, встречал там ее, молодую Анфису. Встречал на гуляньях и свадьбах, на сенокосах... Сенокосы выметали из деревни едва ли не всех людей. Загружали работой и нас, ребятишек. На лесных просеках, маленьких полянках косилкам, запряженным парой лошадей, не развернуться. Выручали ручные косы. Обкашивались кусты черемухи, заросли осинника, затененные овражки. Траву из сырого безветрия полагалось сразу же выносить на просушку. Это дело дядя Матвей, бригадир, поручал нам, ребятишкам. В мешках или на широкой дерюге мы стаскивали траву на солнечную опушку, на ветерок.
Иногда на нашей делянке появлялась Анфиса. Косить она не умела.
— Давай вдвоем, в четыре руки попробуем? — ласково приставала она то к рыжему Костюшке-гармонисту, то к моему старшему брату Андрею. Чтобы исполнить просьбу Анфисы, парням невольно приходилось крепко обвивать ее плечи сзади обеими руками.
— Ох, и хорошо-то! — оказавшись в объятиях, сладко шептала Анфиса и забывала про косу.
Копешки сена свозили с лугов и складывали в высокие стога или ометы. Среди зелени празднично пестрели косынки, платья, глянцевито блестели на солнце мокрые от пота лица, мужские плечи, спины, слышался смех, посвисты: мягко постегивая себя хвостами, фыркали лошади, тяжело скрипели телеги, нагруженные сеном, по луговине лихо носились жеребята — все было в движении, в горячей работе. Мужики и парни насаживали увесистые навильники и, крякнув, толкали их на стог. Бабы вилами на лету подцепляли сено и укладывали под себя.
В короткие минуты перекура нас, мальчишек, с помощью оглобли подсаживали на стог утаптывать сено. Мы прыгали там, кувыркались. Штаны и рубашонки наши насквозь пропитывались запахами сухого разнотравья, зеленой пыльцой. Радостно было находить в сене полувысохшие и оттого донельзя сладкие и душистые ягоды клубники и ежевички...
Но вот перекур заканчивался.
И опять звякали вилы, кряхтели мужики и парни, взметывая в небо целые копна сена.
— А ну Костюшке-то подложьте!
— А вы Ивану, Ивану, по блатцу там накиньте...
— Эй, давай, давай, пошел, пошел!..
Смех и крики сливались, кажется, в одном азартно-размашистом призыве:
— Эх, накладывай поболе!
В такие минуты я видел и понимал, как сильна и многолюдна наша деревня, хотя ее и ополовинила война...
Веселая работа захватывала и Анфису. Правда, находясь среди женщин, она не шибко старалась, капризничала, часто уходила к деревянной кадке пить. Но разом преображалась, стоило ей попасть в мужской круг.
— Ну пустили щуку в реку, — поглядывая в сторону Анфисы, шутили тогда бабы.
Помню, в один день сеноуборки я оказался рядом с отцом. Он посадил меня на телегу, дал хворостину, и мы стали на быках вывозить из лесного оврага копешки.
— Помощник-то у тебя, Степан, больно хорош... щи хлебать. — К нам откуда-то подошла Анфиса.
— Но-но. Коленька у нас молодцом, — заступился за меня отец.
— Эй, поехали, что ль? — Анфиса подала мне свои вилы и, приподняв юбку, без приглашения влезла на телегу. Отец растерянно и виновато взглянул на меня.