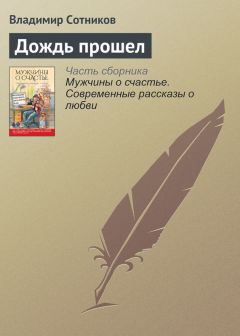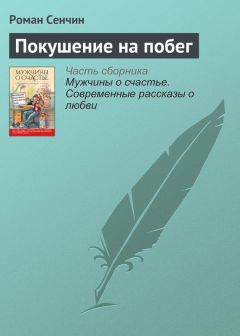Илья Зверев - Трест имени Мопассана и другие сентиментальные истории
— Так никакого же рацпредложения не было.
— Но он ведь не мог иначе оформить. Чтоб тебе денег подбросить. Ему девчонки весь месяц долбили: будь человеком, придумай способ, подбрось ей денежек на детей...
— Не хочу я за них получать премии... Вообще он хороший мужик, Петрович. Он в райздрав два раза бегал, чтоб меня к молочной кухне прикрепили. У них с этим строго: только до года. И Сашке по возрасту уже не положено. Но у него пузик все время болит, и мне соседки подсказали; надо брать такой кефир, специальный, для младенцев. Я теперь хожу за кефиром. Его в таких бутылках дают, длинненьких. А меня эти тетки-раздатчицы, знаешь, как называют? «Мамаша»! Но они всех мамашами называют, кроме папаш. Потому что бездетные туда не ходят… Вот мы с Витей поженимся, и, наверно, я когда-нибудь буду ходить туда. На законном основании. Смехота вообще...
...Они маленькие, но уже люди. Прихожу раз, а Танечка так серьезно спрашивает: «Ты нас взяла, чтобы поиграться или чтобы жить?» А другой раз я на ночную собираюсь, уже опаздываю, горю, а Оля еще из кино не пришла, запровожалась со своим рыжим. Танька проснулась. «Не уходи, — кричит, — не уходи, Маша! Я боюсь! А вдруг что-нибудь во что-нибудь превратится!» Сказок наслушалась... И Сашка занятный...
...Вообще какие все маленькие хорошие... Откуда ж плохие люди берутся?
— От предыдущих взрослых...
— Но надо же как-нибудь это прекратить.
...У нас ничего, симпатичный народ подобрался в восьмом общежитии. Я как-то раньше не присматривалась. А мужиков я даже боялась, потому что некоторые выпивают и орут там, безобразничают. Но вот с этими ребятишками Надиными все себя проявили с очень хорошей стороны. Приходят, приносят разные гостинцы, полезные советы подают — один одно посоветует, второй что-нибудь другое.
…Понимаю, тебе про трудности интереснее. Трудности очень большие. Особенно, когда ребята болеют. Тут прямо с ума сходишь, сидишь и ревешь, как дура. И соседки меня ругают, что мне нельзя иметь своих детей, потому что с таким дурным характером я все время буду переживать… И что еще очень плохо — это стирка, прямо душу всю выматывает. Я не представляла, что с этими маленькими столько стирки! Один день поленишься или, Витя придет, пропустишь стирку — и сразу целая гора мелочи, трешь ее, трешь...
— Но зачем тебе? Ты ж ни с какого боку...
— Ну что ты все задаешь вопросы? Что тебе не понятно? Ты что, не человек?
— Я человек. Но я бы так не смогла.
— Это тебе просто кажется. Ты бы смогла…
Двадцать шесть и одна
— Но у нее есть родной дядя. Родной брат ее покойной мамы. Родной сын ее бабушки, — с некоторым вызовом сказал Павел Ильич.
Он сказал это и сам расстроился. Вот сейчас они окончательно решат, что он злобный и жадный старикашка. А он не злой и не жадный. Просто у него плохо с почками, и он дважды в день — перед работой и после работы — должен тащиться на Нижнюю Масловку на уколы. И, кроме того, ему нужна особая пища, а сноха отказывается готовить ему отдельно, без соли и прочего. Ее тоже можно понять — там трое детей, и работает она где-то в Химках, от дома ехать с двумя пересадками. Но от этого не легче.
Сумасшедшие бабы в отделе предлагали готовить ему по очереди, на общественных началах. Но он, конечно же, отказался. Только ему не хватало ходить кормиться по чужим хатам, как деревенскому пастуху Сергуне (был такой у них в деревне пятьдесят лет назад).
Нет, ни по каким божеским и человеческим законам он не должен заботиться о совершенно чужой девочке, которую видел один раз и просто не запомнил... Даже фактически не о девочке, а о девушке — здоровом, вполне взрослом человеке, который уже имеет право избирать и быть избранным, который мог бы уже по годам выйти замуж и сам родить девочку.
Павел Ильич сердито оглядел огромный двусветный зал проектного отдела, где стояли двадцать пять чертежных комбайнов и один письменный стол и где его уважаемые коллеги в белых халатах чертили разные вещи.
— Родной дядя живет в трех часах езды от Москвы, — склочным голосом продолжал Павел Ильич.
— Я не понимаю! — взвился техник Петя, восемнадцатилетний человек с проволочными волосами, которые росли почему-то не вверх, а вперед. — Не понимаю! Это ка-какой-то пережиток общинно-родового строя: родной там, двоюродный, голос крови! У меня вот тоже есть дядя, родной брат моей мамы, родной сын моей бабушки. Он юрист, доцент, но вообще-то он лавочник. У него какие-то халтуры. Приходят разные консультироваться: «Ах, товарищ профессор, мы вам будем так благодарны», — и суют десятку в руку. И он им говорит благородным научным голосом: «я полагаю, есть все основания надеяться», — а сам косит глазом: сколько там положили, не пятерку ли?
Петя в волнении выбежал в проход, где удобнее было размахивать руками.
— Так кто же, по-вашему, мне роднее — этот кровный дядя или, скажем, вы? Я считаю: по мере поступательного движения все это вообще отомрет — родная кровь и тому подобное. Будут друзья и товарищи!
Тут добрейшая Анна Львовна в испуге обрушила на пол готовальню. В ее близоруких выпученных глазах задрожали слезы.
— Ах, Петя, что вы говорите?! Это ужасно, то, что вы говорите! Значит, и мать — тоже пережиток?! Вы все считаете, что это отомрет?
Саша Суворов поглядел на нее из-под толстых своих очков, засмеялся и сказал:
— Анна Львовна, что вы всерьез его слушаете? Все очень просто: он вчера поругался с предками. Ему потребовался велосипедный: моторчик за сорок рублей, а они не поняли светлого порыва юности.
— Это запрещенный прием! — завопил Петя. — Ниже пояса! Я ведь принципиальные вещи говорю!
Саша холодно сверкнул очками, взял его своей волосатой рукой за плечо (точно говоря, за загривок) и повел к рабочему месту.
— Где девятый лист, дорогой мэтр?
Он мог себе позволить такое обращение с гордым Петей, так как был главным инженером проекта и просто хорошим парнем. Кроме того, он добавил шепотом несколько слов, вполне оправдывавших все эти маневры:
— Что ты, дурень, Анну Львовну расстраиваешь! Ты же знаешь...
Вообще в проектном зале все про всех все знали. Тут была обстановка почти деревенская, почти семейная. Может быть, даже получше, чем семейная, потому что никто не был главой, никто особенно не диктаторствовал и не капризничал. А нормальные происшествия улаживались по странному принципу, выдвинутому тем же Петей: «Главное — не позволять никому быть отрицательным». На этот раз не позволили ему самому, и он не мог возражать. Так сказать, не имел морального права.
Действительно, Анна Львовна очень переживает такие вещи. У нее дочка Аза в девятом классе...
— Я чувствую, с девочкой что-то происходит, — жалуется время от времени Анна Львовна. — Материнское сердце не может обмануть. И Аза такая скрытная. Не делится...
Что такого особенного может происходить с девчонкой в девятом классе? Мальчишка какой-нибудь? Двойка по алгебре? Тем более эта Аза рослая, краснощекая девушка, выпирающая во все стороны из школьного платьица, и говорит мужским голосом. Но раз мать переживает — пожалуйста, все сочувствуют, все спрашивают:
— Ну как там Аза? Все не делится?
— Все не делится, — вздыхает Анна Львовна, и ей уже как-то легче...
...Но сейчас в проектном зале разговор шел о другой девушке, с которой действительно происходили очень серьезные вещи.
Этой весной умерла ее мать, Александра Ивановна Ковалек, Шурочка. Ровно двадцать четыре года тихонько проработала Шурочка в этом зале, как раз за тем комбайном, над которым теперь философствует Петька. И вот однажды она присела на подоконник и сказала: «Что-то мне нехорошо, девочки». Вызвали неотложку, и неотложка опоздала.
Сослуживцы похоронили ее честь-честью. Возложили венок. Местком «выделил средства», как полагается. Женщины поплакали: бедная Шурочка, в двадцать пять лет овдовела, в сорок пять умерла... Одно утешение, что она все-таки успела вырастить Валентину. Та теперь твердо стоит на своих ногах, студентка, почти инженер...
И вот вчера Анна Львовна встретила в метро эту студентку, твердо стоящую на своих ногах. Вид у Валентины был замученный, глаза ввалились, в одной руке она держала авоську с учебниками, в другой какую-то длинную узкую штуку, завернутую в бумагу.
— Это конверты, — сказала Валентина. — Бабушке дают клеить, как надомнице. Но она уже ничего не может, я сама клею по ночам. Бабушке нужен стаж...
Трудно было узнать Шурочкину дочку, которую Анна Львовна помнит еще совсем крошкой, как она на утреннике в День Красной Армии встала на стул и прочитала стишок. Анна Львовна даже помнит, какой это был стишок:
Когда был Ленин маленький,
С кудрявой годовой,
Он тоже бегал в валенках
На горке ледяной...
Как же ее скрутило, Шурочкину дочку!
Валентина не могла задерживаться, она очень спешила, и Анна Львовна поехала в Новые Черемушки ее провожать (хотя тоже страшно спешила, потому что у Азочки вечер интернациональной дружбы, и неизвестно, что ей надеть).