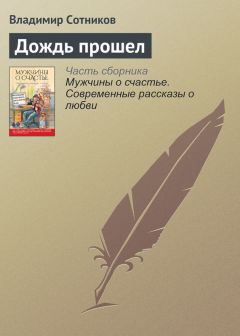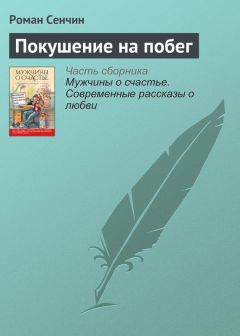Илья Зверев - Трест имени Мопассана и другие сентиментальные истории
— Погулял на монтаже — иди на нормальную работу. А то задержишься, заболеешь этим делом — и пропал. Тем более, тебе удобное время уходить, с почетом и премией, с приказом министра. Хочешь, подарю приказ?
Он достал из внутреннего кармана белую брошюрку с гербом на первой странице.
— Вот, пожалуйста, номер сто семьдесят, пункт «в»... Так... «рационально используя имеющуюся технику... в сжатые сроки... объявить благодарность…». Теперь читай, кому это рассылается: министру, заместителям, членам коллегии, канцелярии, инспекции при министре, планово-производственному управлению... финансовому отделу — заметь! — восемь экземпляров... главной бухгалтерии, техуправлению, УКСу, управлению руководящих кадров (на случай, если тебя вдруг сделают начальником), управлению рабочих кадров и ЦК профсоюза. Подарить на память? Вдобавок к премии...
— Плевал я на премию, — сказал Гончарук. Разрушив прическу, он, видимо, перестал уже подчиняться своим обычным правилам.
— Но, но, на гроши не плюй. Проплюешься...
— Плевал я на гроши, — упрямо повторил Гончарук. — Теперь я плевал. Когда я сюда приехал, у меня на сберкнижке было шесть тысяч по-старому. А сейчас осталось пятьдесят копеек по-новому, чтоб только счет не закрыть. — Гончарук отчаянно заглотнул воздух и продолжал, хотя он уже наговорил нам за эти двадцать минут больше слов, чем за предыдущие четыре месяца: — У меня, знаете какая специальность? Золотая, в полном смысле. Я каменотес, самой тонкой руки, — еще от батьки это дело знаю. Ты Ремарка «Черный обелиск» читал? Не читал? Ну, а на львовском кладбище бывал?
— Рановато вроде...
— Ты не шуткуй. Там не простое кладбище, а художественное. Там такие кресты, такие памятники — просто произведения! И я по этой специальности работал. Получал по потребности. Приходят родичи, вдовы, плачут и просят, чтоб как-нибудь получше отметить покойника, пооригинальнее. А заведующий отвечает: «Поговорите с мастером». От него же в самом деле ничего не зависит. Ну, говорят со мной. И договариваются.
Гончарук выжидательно посмотрел на нас. Наверно, хотел выяснить, осуждаем мы его или как... Но мы просто слушали.
— А потом как-то вдруг занудило, так занудило... я взял и сюда подался. И мне дуже понравилось: такие тут ребята откровенные, и работа — все время, как пьяный трошки или как марафонский бег бежишь! И так я жалкую, что надо мне уходить. И так оно, правда, плохо, что нельзя мне тут остаться. Я слабый на это, я дуже гроши люблю. Еще мой учитель Гнат Захарыч предупреждал: плохой у меня характер, резко континентальный. Это значит — середины нету: или я холодный, или горячий.
Мы еще немножко помолчали, подумали.
— Да, — сказал Игорь. — Поговори, Иван Грозный, с Семеновым. Или с самим Кацом.
— А что Кац? Бог? В него и так бумажками тычут, как пистолетами: сокращай, сокращай. Я уже раз ходил насчет Леньки Волынца. Ничего нельзя сделать...
— А ты еще раз сходи. Насчет Гончарука. Тот Ленька и так не пропадет. А здесь человек может счастья лишиться, может впасть в холодное состояние, с этими художественными памятниками. Представляешь?!
— Ничего, Женя, не выйдет.
— Ты все-таки поговори, старший прораб, — сурово сказал Женька. — А в крайнем случае — если наотрез, тогда...
Он выжидающе посмотрел на Гончарука, и тот понял, что нужно уйти, что сейчас будет какой-то важный разговор, прямо его касающийся. Гончарук поднялся из-за стола и решительно зашагал к выходу. Но у самой двери остановился, подумал-подумал и присел на табуретку. На этой табуретке перед закрытием обычно сидит уборщица тетя Алевтина и ругает опоздавших. Ничего страшного: оттуда все равно не слышно.
— Если с Кацом ничего не выйдет, тогда лучше я уйду! — сказал Женька и задохнулся от собственной самоотверженности.
— Куда ж ты уйдешь? — спросил Иван Грозный, ужасаясь этой жертве.
— Покантуюсь временно в ремонтном. Меня возьмут...
И все вдруг обозлились. Потому что очень неудобно смотреть, как другой на твоих глазах совершает благородный поступок. А ты сам это бы мог, но не хочешь. И неловко перед собой, и все равно не хочешь. Потому что это — страшное дело: вдруг распрощаться со своими ребятами, к которым притерся, которым подмигнешь — и все ясно, с которыми можно на полную откровенность, без политики... Никто из нас этого не хотел, никто из нас этого просто не мог. Нет, хай Гончарук сам устраивает свои дела: безработицы в стране нет, всем открыты сто путей, сто дорог, как справедливо отметил Иван Грозный. Брось дурить, Женька, обойдется без твоих подвигов!
— Обойдется-то обойдется, — сказал Женька, которому и самому, видно, хотелось, чтоб его отговорили. — Но, с другой стороны, объяснил же человек.
— А что он, маленький?
— Но он же честно объяснял: он слабак. А я ничего... — Женька печально вздохнул. — Я ж ни за что кресты рубать не пойду: «Спи спокойно, дорогой супруг, вечная тебе память».
Он опять уже говорил в своем легком жанре. Видно, все-таки принял решение. Мы больше не стали его отговаривать и позвали Гончарука.
Женька похлопал его по унылой спине.
— Не дрейфь, все образуется,
Я забыл сказать — хотя это и не важно, — что Женька исключительно красивый парень. Природа как будто сделала его для образца: большого, складного, глазастого. И, словно бы художник, она все время в нем что-то подправляла, совершенствовала, дорисовывала. То разгонит за одно лето плечи, то высветлит чубчик и заставит вдруг его виться...
— Спасибо вам, — сказал Женьке Гончарук, хотя раньше говорил ему всегда «ты». — Спасибо большое!
Женя махнул рукой: ладно, мол, бог подаст — и решительно встал из-за стола.
— Ну, все, ребята, — сказал он. — Куба — си, янки — но!
И поспешно ушел, позабыв на столе свою первую сигару. Он боялся опоздать на стадион, потому что мухтеевские химики — это на редкость хваткие ребята: они приезжают за час до игры и занимают все трибуны. (А стадион маленький — трибуны всего в три ряда.) Стадион маленький, но очень увлекательная игра. Не то, что у мастеров класса «А», которые гоняют, гоняют мяч два тайма и — ноль-ноль (или один плачевный гол забьют со штрафного). А тут совсем другое дело, тут игра результативная. Прошлый раз играли «Шахтер» (Пирогово) — «Химик» (Мухтеево). И счет был 19:8!
Что тебе не понятно ?
«С подсобной работницей литейки Пестовой Н. случилось несчастье, и она была в тяжелом состоянии отправлена в 14-ю горбольницу. И тогда расточница Маша Резванова, член бригады коммунистического труда нашего цеха, приняла к себе ее детей — одного и трех с половиной лет. Вместе с соседкой по общежитию библиотечным работником Ольгой Кашиной, при содействии всего коллектива, она воспитывала этих двоих детей в течение полугода, вплоть до возвращения матери из больницы. И по сей день она не теряет связи... Прекрасный поступок комсомолки является...» и т.д.
II. Почти документ (Из разговора Маши Резвановой с ближайшей подругой Катей, специально приехавшей из Калуги).— Зачем ты это сделала? Что ты хотела этим доказать?
— Ничего я не хотела этим доказать.
— Но есть детские дома и эти ясли-пятидневки. Там врачи, нянечки, разные педагоги и музработники. Там хорошо... Родные матери — и те стараются отдать своих туда. Ты в завкоме спроси. Знаешь, какая там очередь на запись! А их взяли бы сразу, безо всяких.
— Но я ж сама захотела...
— Ну почему?
— Ну, не знаю... Я как раз была во дворе, когда ее увозили. Я видела, как она боялась и как детишки плакали. И я сказала: «Не убивайся, Надя, они у меня пока побудут». Я думала, это дней на пять или неделю.
— Ну, ладно, а когда кровоизлияние было? Когда доктор сказал, что полгода — не меньше?
— А мне чего-то стало жалко отдавать. И Оле стало жалко. И все у нас так удобно получается — мы с ней в разных сменах.
— А Витя как на это смотрит?
— Как смотрит? Нормально смотрит. Сперва удивился. Потом ничего. Помогает...
— А если б ему не понравилось?
— Тогда бы, может, и он мне не понравился...
— И ты бы из-за это-го все под от-кос пу-сти-ла?!
— Я не знаю. У нас с ним пока еще не было плохо. Откуда ж я могу знать, что бы я делала, если б было плохо?
— Но все-таки, может, ты этого еще не сознаешь — разные мелочи очень портят любовь. Отравляют постепенно. Я это точно знаю, по себе.
— Пока ничего такого не было. Ну так не пойдем с ним в клуб, дома посидим, с ребятами поиграем. Что тут такого ужасного? Женатики все время так дома сидят. Большинство людей — женатики. И ничего ведь, живут…
— ...Петрович вчера жаловался. За мою доброту и меня, говорит, облаяла. Он же тебе выписал эту премию. За рацпредложение.
— Так никакого же рацпредложения не было.