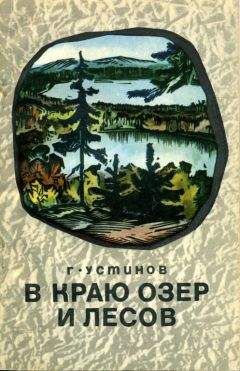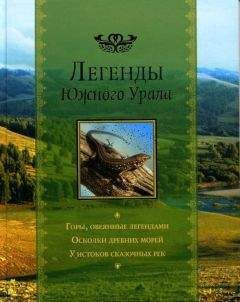Николай Верзаков - Таволга
Неделю он лежал в урмане. Потом встал. От слабости качало. Одна мышь — все, что удалось добыть за день. В последующие дни тоже только мыши, да и тех трудно было добыть. Еще через несколько дней бока его опали, ребра выступили, голова стала казаться непомерно большой. Жизнь в стае, тоже нередко голодная, представлялась ему теперь сплошным пиром.
Впереди оттепели — лучшее время охоты на лосей и косуль. Волк подумывал о возвращении в стаю, но прежде надо было подкормиться, набраться сил. Он обнюхивал следы, свежие заячьи лежки — голод грыз тощее брюхо и приводил в отчаяние. Даже во сне виделось мясо.
Он выходил на дорогу в надежде перехватить зайца, подбирающего сенную осыпь, или отставшую от воза собаку. От изъянного месяца снег тускло блестел, и все вокруг казалось мертвым. Лисьим хвостом протянулся вверху Млечный Путь.
Волк был грязно-белого цвета, сливался со снегом, и только скользящая тень выдавала безмолвный бег. Так, рыская, он оказался на островке в болоте, где нашел много следов, оставленных большой птицей. Некоторые хранили запах. Под соснами он обнюхал хвою, сброшенную при кормежке, и хвою переваренную, из чего заключил, что глухарь здесь был совсем недавно. Обостренное голодом чутье подсказывало, что птица близко, а врожденная повадка заставляла быть крайне осторожным. Поводя носом и часто останавливаясь, он подошел к месту, куда упал глухарь. Обнюхал вмятину в снегу и замер. Птица была под снегом. Он точно определил, где именно, уставился в ту точку и сжался для прыжка, не знающего осечки. С подветренной стороны ему удавалось обычно подойти к заячьей лежке настолько близко, что зверек не успевал сделать стремительного скачка, каким отличаются все зайцы в минуту крайней опасности.
Голод и болезнь сделали волка легче, подвижнее. Он и теперь мог бежать десятки километров. Но так продолжаться не могло. И он прыгнул, чтобы вонзить клыки в птицу.
Снег взорвался, обдал брызгами, осыпал волчью морду, залепил глаза. Зубы щелкнули, и в пасти волка осталось несколько перьев. Он прыгнул вслед, понимая тщету затеи.
Вернулся, обнюхал лунку в снегу, еще державшую тепло и острый до головокружения запах перьев. Сел, поднял морду и завыл тем воем, от которого все живое цепенело в лесу.
Спустя два годаКонец второй зимы выдался ведренным. Воздух отмяк. Хвоя сделалась темной. У комлей появились затайки. На дорогах отпотели сенные отруски.
С приближением весны Кара-Суер почувствовал беспокойство и в один из дней ушел с острова в сторону Светлой елани. Там встретил еще несколько глухарей. Два были его братьями, но он совсем уже не помнил их. Птицы, должно быть, уже не первый раз собирались на горе. Они благосклонно приняли пришельца. Только Старый глухарь-токовик глядел на него дольше других, потом отвернулся: пусть сидит себе. Больше птиц — даже лучше на случай опасности: какая-нибудь да заметит ее.
Во все стороны, куда ни погляди, горы. Матовый, голубой, синий — чем ближе, тем гуще, тяжелее цвет гор. Покать напротив совсем темна. Вкрапления сиреневого березняка, золотисто-зеленые сосновые полосы прореживают темную глубину елового леса.
Отсюда, с горы, виделось все, что делалось внизу. На противоположном склоне отдыхало небольшое стадо сохатых, и в нем выделялся черный бык. Лисья строчка огибала беспорядочный заячий след. С вершины соседней ели порошила снежная сыпь — белка искала шишки. Стая суетливых чечеток обивала семена с березы. Белые синички с длинными хвостиками перелетали кивками, словно несли их невидимые волны.
Вдруг на соседней горе сверкнуло — там Человек поднял бинокль, и от стекол отскочил солнечный зайчик. Уже не первый раз Человек пытался подобраться к глухарям во время кормежки. Старый снялся, разлетелись и остальные.
В месяц Голубых Теней Кара-Суер стал каждый день прилетать на гору. Тело его наливалось беспокойной силой и тяжелело. Теперь он часто опускался на землю и бродил между стволами. По ночам плохо спал — тяготила тьма, а с рассветом часто перелетал с места на место. Так однажды он попал на токовище, площадку, поросшую сосной и лиственницей, с одной стороны ограниченную скалистым уступом, за которым начиналась непроходимая падь, с другой — непролазный кустарник, с третьей — топь. И только с вершины горы был узкий доступ к токовищу, заросшему брусничником, загроможденному завалами и валежником.
Перед месяцем Пробуждения солнце распустило наст, снег на лобных местах изник. Глухарь однажды не улетел с токовища, а после захода солнца устроился на кряжистой сосне. Прилетели другие, и каждый занял свое место. Так было каждую весну, много веков. Старились и умирали деревья, вырастали новые и тоже старились. Появлялись незнакомые звери и птицы. Бесследно исчезали тьмы насекомых. Неизменными лишь оставались горы да токовище, куда собирались древние, как мамонты, птицы. Как они, тяжелые и неуклюжие, прошли через тысячелетия, когда и от более расторопных не осталось помину?
Вечер как из тины волочился. Тьма густела медленно. Лес гомонил. Синицы, почти единственные зимой в лесу, потерялись в многоголосье. Кричали пролетные стаи. Взмывали в воздух и, распустив крылышки, садились на вершинки лесные коньки. Керкали дерябы, юрчили вьюрки, не умолкали певчие дрозды — все сливалось в неугомонный звон.
Но мало-помалу деревья потеряли объемность и растворились во тьме. Успокоились птицы. Только тенькала еще пеночка да чакал кем-то встревоженный рябинник. Промелькнуло белое пятно — линяющий заяц пересек поляну. Напахивало дымом — вдали горел костер.
Ночь весной наступает несмело, постепенно приглушая звуки, но полностью ей этого не удается. Только в полночь лес чуть задремывает.
На исходе короткой ночи Кара-Суер выпростал из-под крыла голову и прислушался. Вверху просвистела стая крякв. Изредка перекликаясь, на большой высоте медленно шел реденький косячок лебедей. Потом будто кто песку кинул в воду — над самыми вершинами пронеслась станичка какой-то мелкоты.
Прокричал клинтух свое: «Ху-бу, ху-бу…»
На несколько мгновений установилась полная тишина. И вдруг — щелкнуло, будто кто-то стукнул грецкими орехами друг о дружку. Этот глухой стук был так непохож на все лесные звуки, что Кара-Суер насторожился в сильном волнении. А когда щелканье повторилось, ноги глухаря вдруг напряглись, хвост раскинулся веером, шея вытянулась, перья на ней вздыбились, борода встопорщилась, пурпурные брови, кажется, еще больше набухли. Он щелкнул в ответ. Прислушался и снова щелкнул.
На земле у валежины медленно ходил и еще медленнее поворачивался Старый глухарь-токовик, исторгая дикую, как заклинание шамана, песнь. Подлетевшая копалуха казалась очень маленькой по сравнению с ним. Он словно бы и не заметил ее, продолжая двигаться с той же размеренностью, и только голова почти запрокинулась, да звуки полились без перемолчек. Как только он отошел метров на пять, копалуха подбежала к нему, но он опять ее не заметил.
Справа в хвойной тьме сидел первогодок. Брови его еще не были настолько красными, чтобы петь, и он прилетел на ток просто так, движимый неясным предчувствием.
Медленно опуская шею, Кара-Суер повернулся, опустил крылья и пошел по суку. Остановился, поднял голову и щелкнул при этом, как бы прислушиваясь к собственному голосу. Потом с ним что-то произошло.
Он видел Человека, крадущегося со стороны, где дымил костер. Но и Человек, и все вокруг выключилось из сознания. Он не слышал ни лесного гомона, ни хруста веток.
Вышло солнце и облило покать розовым светом, легли голубые тени. Посветлел ельник вдали. Березняк налился веселым красноватым цветом, нежно зазеленели стволы осин. Издалека доносилось бормотание тетерева.
Кара-Суер видел Человека и не мог улететь, как бывает нельзя прервать сновидения. Так продолжалось недолго, он приходил в себя и прислушивался. Но периоды просветления сокращались, и он снова становился беззащитным.
Вот Человек остановился, поднял ружье и стал изноравливаться.
После выстрела Кара-Суер посунулся вперед, задержался на мгновение, как бы стараясь сохранить равновесие и допеть песню, однако не удержался, песни не допел и стал падать. На земле, волоча крыло, он добежал до сосны, разбитой грозой прошлым летом, густая крона которой валялась теперь, всунулся в красные усыхающие ветви и затих.
Выстрел подшумел Старого, и он, с треском проламываясь через заросли, распугал ток.
Кара-Суер видел, как Человек прислушался, вероятно, надеясь уловить хлопки смертельно раненной птицы. Потом бросился в одну сторону, в другую — нет. Пробежал до конца площадки, за которой начиналась падь, прилежно всматриваясь в островки снега, — следов не было. Стал ходить кругами, сужая кольцо. Когда примостился на краю валежины, солнце поднялось над лесом.