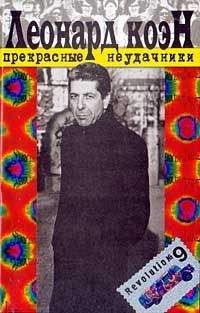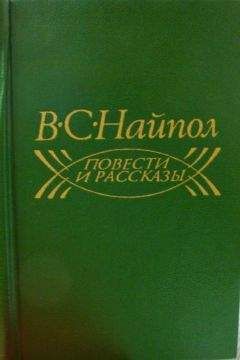Фзнуш Нягу - Властелин дождя
Ночь была на исходе, и меня расталкивал Александру Жуку. Брезжил рассвет, Мауд уже встала и пошла ловить свою щуку. Езару, стоя на четвереньках лицом к Дунаю, выл волком, от Жуку пахло водкой, его лошадиная голова нависала надо мной. Лошадь, которую мучает жажда, — пришло мне в голову, и я потянулся за свитером, валявшимся на полу. Жуку наступил на него ногой и толкнул меня обратно в постель. Тем временем Езару растянулся на рогоже лицом кверху, не переставая с мясом вырывать из себя варварские звуки.
— Слушай, старый волк, — сказал Жуку, — катись отсюда, — и поддел его ногой.
Старый волк перевернулся, снова встал на четвереньки, цапнул его за штанину своими закованными в железо зубами, перевалился через порог, хохоча, и длинными, звериными скачками помчался по влажному от росы песку.
Я остался с Жуку. Он нагнулся ко мне, все так же топча мой свитер и дыша перегаром, заговорил:
— Ты — третий, кого она приводит сюда. И я с самого начала понял, что ты теряться не будешь. Я знал.
— Оставь меня в покое.
— Нет, — возразил Жуку, — ты должен послушать, как я вою по-волчьи. Я почище Езару, я ведь тут зиму зимую и слушаю. Ночью, в метель, когда они пухнут с голоду, я вижу их в окошко. Я только что на четвереньки не становлюсь, я так. Вот, смотри, теперь я — одинокий волк. — И он завыл, трехступенчатой руладой, это был зов долгого и страшного ожидания. — Я созываю стаю, слушай внимательно, и она собирается, вот она, — Раздался лай, отрывистый, захлебывающийся, вылетающий из глотки, как сгустки крови. — Мы собрались и отправляемся на добычу. Что найдем, не знаю, но что-нибудь нам должно перепасть, чьи-то косточки, коровьи или бабьи, я — вожак стаи, я — волк, я — пес, лошади чуют меня издалека и рвут упряжь, в селах меня поджидают с топором, а один, Александру Жуку, дрожит в своей обледенелой хибаре и кричит в трубку сонной телефонистке: «Ко мне пришли волки, сверкают глазами под окном!»
И он снова зашелся в вое. Взявшись обеими руками за спинку деревянной кровати, он тряс ее и выл, круглые, обведенные красным глаза выкатились из орбит, на губах выступила пена.
— Кончай ко всем чертям! — рявкнул я.
Он замолчал и отер рот тылом ладони.
— А, страшно стало!
Говорил он спокойно.
— Не бойся, зубы я в тебя не вонжу. Это я так, забавы ради. Не знаю другого средства от тоски. Может, стоило бы повеситься на этом крюке. — Он ткнул пальцем в крюк, на котором висели два гарпуна, и вдруг рассмеялся. — Ну, я чурбан! Погоди-ка, я тебе сейчас кое-что покажу. Это ты. ты меня надоумил.
Он пошел к стоящему в углу шкафу, встал на колени, выдвинул нижний ящик, выставил две планки, глубоко засунул руку — щелкнул потайной замок, и в стене открылась дверца. В тайнике — конверт.
— Это я, — объявил Жуку, — я — тот езаровский верный человек. Ты ведь не поверил, что он есть на самом деле, а?
Я вздрогнул, но больше ничем не выдал изумления. Это все могло оказаться болтовней, но, глядя, как его пальцы нащупывают и разрывают край конверта, а губы бормочут что-то бессвязное, я уже понял: после того как мы все узнаем, разверзнется бездна; я отдавал себе отчет, что произойдет непоправимое, но не пытался, даже не думал его предотвратить.
— Я храню его пять лет.
Не вставая с колен, он подполз ко мне и протянул листок, а я, подвинувшись к окну, где умирала ночь и брезжил, поднимаясь с реки, слабый, клочковатый, как бы кладбищенский свет, начал читать. И я прочел:
«Знай, моя дорогая жена, что здесь дела идут на лад, но о том, чтобы получить отпуск или увольнительную, и речи быть не может. Мы должны выполнять свой долг. А ты смотри за дочкой и сама будь начеку, сейчас такие времена, как бы в голове не помутилось, столько солдатни рыщет, с деньгами, с трофеями, с шоколадом. Дочь береги как зеницу ока. Я для вас раздобыл теплую фланель, пошлю ее со своим товарищем, который спит надо мной на нарах и мы с ним пили пиво в одной корчме тут неподалеку. Ему дают увольнительную в конце месяца, а почему ему дают, потому что он попросился в карательный взвод, и их отпускают в увольнительную. У него горе, у бедолаги, с девушкой, с которой он помолвлен и состоит в переписке. Девушка живет в доме у его отца и пишет ему, что ею пользуются и отец, и два брата, которые остались в деревне, на жирных харчах, и она зовет его, чтобы, приезжал, а я думаю, не дай бог, что случится, когда он приедет, потому что он черный, как земля…»
— Дай сюда, — велел Жуку, взял письмо и порвал его, потом сложил и порвал еще раз, потом разорвал на клочки и сплюнул. — Ничего интересного, — заявил он. — Тебе надо тоже попробовать по-волчьи. Давай, я стоя, а ты на четвереньках.
В это время на берегу закричала Мауд. Жуку вышел на порог.
— Эй, что там, что ты кричишь?
— Езару, — всхлипнула Мауд. — Утонул. Полез в камыши проверить верши, упал и…
— И ты еще плачешь! Одним мерзавцем меньше. Поди пройдись по берегу, поохоться на змей… — И ко мне: — Интересно, где у него могут быть те двадцать восемь нераспечатанных?
Мауд была близко, я ее не видел, но знал, что она здесь, слышал, как она плачет, — она плакала, потому что видела, как он умирал, или потому, что это из-за нее он умер, в камышах, среди змей, среди множества змей, которых она хватала и с одного удара рассекала ножом и которых он панически, смертельно боялся, — и страшный вопрос Александру Жуку повис в неведомом. Двадцать восемь писем усиливали неведомую опасность.
И Мауд была моей, и я был опасностью Мауд.
1967
Сто ночей
Облитый лучами заходящего солнца, бело-зеленый катер скользил вниз по реке. Рулевой, молодой парень, старался держаться ближе к правому берегу, где течение было слабее. За его спиной на скамейке, рассчитанной на троих, сидел прокурор Раду Стериан, худой, костлявый, белобрысый, с выцветшими голубыми глазами. Внимательно разглядывая ногти, он пытался отыскать на них те мелкие белые пятнышки, которые, говорят, приносят удачу их обладателю. Молчал он уже давно, и рулевой был уверен, что пассажир задремал — всех этих сухопутных крыс укачивает звук мотора.
Раду Стериан, с горечью убедившись, что он совершенный неудачник, уронил руки на колени.
Над ними пронеслась ворона.
— Накаркает, дура чертова! — выругался рулевой.
— А ты сплюнь, — рассмеялся Стериан.
— Вы что-то сказали?
— В порт не заходи. Держи так прямо до пляжа.
— Пляж вот-вот закроется. Нас не пустят.
— Там меня два приятеля ждут. Нужно подбросить их в порт.
— Ну что же, подбросим, раз нужно.
И рулевой наклонил голову под прикрытие лобового стекла, чтобы зажечь сигарету. Проходили док. До рыжеватой полоски пляжа, блестевшей между полями подсолнечника и тополиной рощей, оставалось не более километра. Рулевой сбавил скорость. Двигатель уже четыре часа работал на пределе и теперь подавал все признаки усталости. Далеко, возле раздевалок и гимнастических снарядов, виднелись загорелые фигуры отдыхающих. Их длинные тени протянулись до самой воды. И что может делать Майя в таком муравейнике? — подумал Раду Стериан. Наверное, грызет леденцы и кокетничает с Джордже Мирославом.
С запада наползал голубоватый туман, прозрачный и легкий, как дымка, что поднимается из травы в летний день. В трехстах метрах влево, у береговой линии, там, где теснились склады, пакгаузы, железнодорожные пути с бесконечными вереницами вагонов, под застывшими стрелами кранов и арками дебаркадеров покачивались на воде буксирные катера, словно усталые чайки, пузатые железные баржи, торговые суда — одни приземистые, закопченные, с короткими трубами и корявыми мачтами, другие стройные, удлиненные, похожие на лошадей, вытянувших шеи и готовых устремиться вперед. И всюду лодки, спасательные круги, как бублики в сверкающей обертке, бакены, понтоны, грузовые платформы, когти якорей и просмоленные канаты. Возле изъеденной сыростью старинной башни, которая возвышалась у самого входа в порт, дымил пароход величиной с двухэтажный дом. На носу его развевалось лазурное полотнище с желтым крестом: флаг Королевства Швеции.
— С каким грузом вошли шведы? — спросил Стериан.
— Железная руда, кажется. А позавчера их старпом купил в городе шесть бульдогов, целую свору. Что у них там своих бульдогов нет, что ли? Ведь собака такая тварь — где угодно водится.
— А он стравил их друг с другом, чтобы развлечься. В прошлом месяце я был на английском корабле, видел петушиный бой. Такая мерзость!
— Я слышал, на этих петухов делают ставки, как на лошадей. Правда или как?
— Да, и англичанин говорил.
— Пляж! — объявил рулевой. — Вам где остановить? Правее раздевалки нельзя, там мель. Возле того типа с удочкой, хорошо?
Раду Стериан поднялся. Его длинные руки в коричневых родинках повисли вдоль тела.
— Останавливай где хочешь.