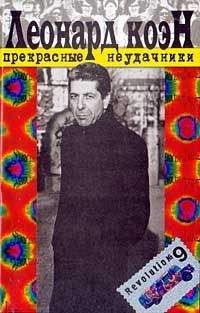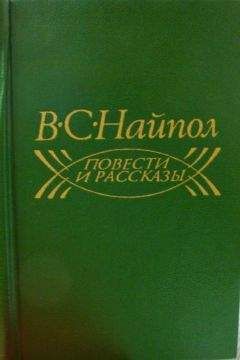Фзнуш Нягу - Властелин дождя
— Как это, как это ты меня учуял? — удивлялась голова. — Надо же, хитрый какой.
А по запаху, — объяснил Жуку. — У нас никто не курит, а от тебя табачищем разит. — И добавил: — Почитать хочется. Пошел бы, принес.
— Про любовь? — спросил Езару.
— Не обязательно. Все равно про что.
— Ладно, значит, и про то, и про се. Я захвачу и выпить. Был в селе, разжился кое-чем.
— Этот тип — особая статья, — сказал Жуку, — сам увидишь. Но это потом. А пока я тебе расскажу, что мы с Мауд видели. Да, дело было тоже в июне, во время покоса, косари спали в палатках у переправы, а мы с Мауд сидели без света на галерейке. Не разговаривали, чтобы не разбудить третьего… Мауд, если хочешь знать, никогда не приезжала сюда одна, хотя я не заметил, чтобы она с кем-нибудь из вас затевала любовь… это был офицер, он спал в коридоре на походной кровати — привез из дому. Мы, я и Мауд, сидели и смотрели, как ветер гуляет по полю. Колосья спелые, от них ночью светло. Конечно, не без помощи луны. Луна над водой — как истеричка, меня иной раз страх берет. Мауд будто задремала на своем стуле, я потирал комариные укусы и, помню, думал, что вот бы мне козлиные ноги. Сидим мы, значит, так, и вдруг Мауд — хвать меня за рукав и показывает пальцем куда-то в поле. А я возьми да начни вслух считать, так Мауд прямо ногтями в меня впилась, чтобы я заткнулся. И я тогда про себя: три, четыре, пять и еще три. Всего восемь, и все голые, как Мауд сегодня утром. Вышли из лесу — и шасть в пшеницу. Мауд замерла и смотрела, и сжимала мне руку, чтобы я не крикнул ненароком и не спугнул их. Восемь, представляешь себе, и они разгуливали и разводили руками, как будто купались, чтобы не сказать — плавали, потому что, дойдя до дороги, они поворачивали, показывали спину и пускались снова в глубь поля — вприсядку, только головы торчат над колосьями. А колосья ведь колются, в них можно и на бодяк наткнуться, оцарапаться, что за удовольствие? Так они проплыли взад и вперед два раза, и вся эта шальная игра, для меня непонятная, длилась примерно четверть часа, а то и меньше, да, наверное, поменьше, и наконец они выпрямились во весь рост, вышли гурьбой на тропинку и скрылись в лесу. «Пошли на берег», — позвала Мауд, и мы вышли с ней к Дунаю. Луна — как сейчас. Два парня выскользнули из-за тополей и прошмыгнули мимо, как будто нас не заметили. Мауд решила, что это для них девушки и купались в поле, но я уверен, что тут не то, для двух парней были бы две девушки, а не восемь.
— Ну, и что это было, по-твоему?
— Смерть о восьми желтых телах, — ответил Жуку.
Я пристально посмотрел на него — он не шутил.
— На другой день, — объяснил он, — я хотел обсудить с Мауд то, что мы видели, но при этом тупице офицере не стал, он бы только ушами хлопал. Факт тот, что около обеда на этом месте умерла старушка, которая вязала снопы.
Села меж двух снопов попить воды, и нашли ее с муравьями во рту. В граблях — восемь зубцов, а кувшин — на восемь литров. Улавливаешь связь? — Глупости.
— Может быть, — согласился он и рывком распахнул дверь. На пороге стоял Янку Езару.
— Входи, тебе бы только подслушивать. У нас секретов нет, никому косточки не перемываем.
— Черт! — поразился я. — У тебя слух феноменальный.
— Да, — сказал он, — я чую ветер за минуту до того, как он поднимается.
— Ты прошел мимо моей двери, и я тебя узнала по походке.
Это говорила Мауд. Езару поклонился ей, длинный, костлявый, бесцветный — в тон дешевой ситцевой рубашке, которая когда-то, судя по теперешнему бурому оттенку, была красной. Он улыбался, гордый то ли своими железными зубами, то ли парусиновыми штанами цвета хаки, на подтяжках с никелированными пряжками, с большими задними карманами, рассчитанными и на табак, и на бутылку, и на рабочий инструмент.
— Барышня, которая бьет змей! — сказал он. — Очень, очень замечательно, что ты надумала снова к нам приехать.
Он посторонился и впустил Мауд.
Мауд держала руки в карманах пижамной блузы и, с ненакрашенными губами, взъерошенная, казалась моложе, чем на самом деле, — одна из тех женщин, которые в тридцать лет понимают, что смерть прокралась в их чрево, оплодотворив его мраком и увяданием, и которые, не боясь больше краха, иногда умудряются ее отогнать, и в эти минуты, когда их кровь обновляется, они, обернувшись двадцатилетними, вдруг сражают своей царственностью, и печать проклятия отмечает их и манит к ним беспощадной звездой, потому что предчувствие угасания, этого со стороны незаметного мрака, передается мужчине и лишает его разума. Какой-то избыток разливается в отцветающем теле и зовет, и притягивает.
— Проходи и садись на кровать, Мауд, — приказал Жуку, чтобы установить в комнате подобие порядка. — Видишь, — продолжал он, кивая в ее сторону лошадиной головой, — то Мауд клевала носом, а то она — сплошное электричество. И на все про все ей не понадобилось и четверти часа.
— Это барышня деликатная, таких у нас не водится, — льстиво сказал Езару. — Наших, что и говорить, нечего даже в расчет брать. Они только и годны рыбьи кишки чистить. Толстопятые, и на пятках такие трещины — в каждой горсть кузнечиков поместится.
— Ах, паршивец, — сказала Мауд, — ухажер называется. Уже шесть дней я здесь торчу, а он и не подумал явиться.
— В Бухаресте был. А оттуда заехал на одну овчарню, к приятелю. Дай, думаю, посмотрю, что за сыр он делает. Ничего хорошего, и всю ночь собаки лаяли. Я вернулся, и только это я вернулся, как чуть не пошел на дно. На переправе паром дал течь, и нас тянули наполовину в воде. Хуже всего орала одна баба, ее детенок вцепился в бортик и щелкал зубами. Я тоже вопил, и громко, ох как громко, потому страсть как боюсь змей. Только ты можешь с ними поваландаться, а потом сесть за стол — и у тебя кусок поперек горла не встанет.
— Доставай бутылку, — перебил его Жуку, — хватит языком молоть. И письма выкладывай. Полюбуйся, Михай, на образцового мерзавца.
Езару вынул бутылку и письма.
— Господин Жуку, скажите, пожалуйста, как будет завтра с погодой: вёдро или буря? Что-то вроде ветерок на Дунае.
— Черта с два ветерок. Будет жара, и все это дерьмо в болоте закипит. Смотри, Михай, — он показал на кучу конвертов, — эти письма написаны и отправлены десять лет назад, но так и не дошли до назначения. Каково, а?
— Нет, не так, — поправил Езару. — Надо ввести его в курс дела. Я был на фронте, понимаете?
— Будем жевать любовные истории? — спросила Мауд, перебирая конверты.
Езару хихикнул.
— У меня есть одно с «дорогим помпончиком» и одно с «ангелом и лепесточками роз». Два таких. Почитаешь — со смеху умрешь, и я их обоих знал, этих, которых письма. Вон там — желтый конверт и конверт с каймой.
— Погоди читать, Мауд, — попросил Жуку. — Эти письма и еще сколько-то там сотен… — начал он объяснять мне.
— Тысяча четыреста восемьдесят два, — уточнил Езару.
— …это его собственность, — продолжал Жуку.
— Одиннадцать потерялось.
— Эй, сам тогда рассказывай, — вспылил Жуку, — чем перебивать через каждое слово.
— А что ты, милый, сердишься, это моя история. Так вот, я был на фронте и собирал почту. Однажды прорвали фронт, задали нам перцу, а при мне — лошадь и два мешка. Выбросить их я побоялся, кто их знает, какие в них секреты, еще попадут неприятелю в руки. А после я и к не стал бросать, потому как кожаные — такие ведь ял улице не валяются, а? Я был на лошади, а лошадь, если ей удила отпустить посвободнее, а когда надо — подтянуть, она тебя довезет в лучшем виде. Так она меня до дому и довезла. Мешки я забросил на чердак. Старуха моя померла, детей у меня нет, а заводить их — накладно… — Детей заводят, чтобы было кого любить, это не его случай, — сказал Жуку.
Езару укоризненно покачал своей маленькой, с кулак, головкой и обернулся к Мауд.
— Прошлый год я распечатал одно письмо и там нашел слова, которые у меня в голове засели. Вот: «Что мы говорим— это только половина, если не меньше, того, что мы хотим сказать».
— А что, — удивилась Мауд, — у тебя есть еще нераспечатанные?
— Не очень-то много, но есть. Двадцать восемь. Я их приберегаю к праздникам. В пасхальную ночь раскрыл два и до света все думал. Вышло совпадение. Оба они написаны восьмого апреля, в половине пятого утра. И надо же было, чтобы я их вскрыл как раз тоже восьмого апреля и тоже в половине пятого. Как будто кто-то где-то их нарочно подбирает. Другой раз страсть как хочется узнать — что случилось с теми, кто их писал. Сколько еще живо, сколько умерло. Вот бы, думаю, собрать их всех вместе и посмотреть на всю компанию. Я бы залез на каланчу, а они пусть внизу будут. Представляете, из тысячи четырехсот восьмидесяти двух личностей, минус двадцать восемь, которых я еще не трогал, семьсот тридцать шесть только и делают, что ревнуют своих баб.
— То есть ревновали, — уточнил Жуку. — У кого это прошло, а у кого — плохо кончилось.