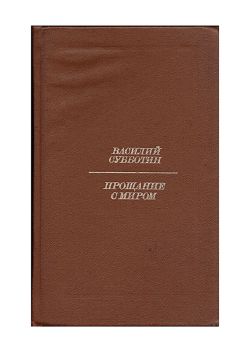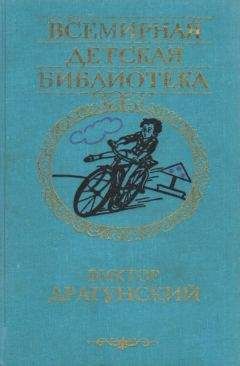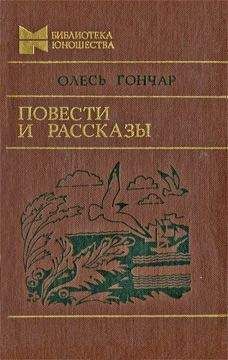Василий Субботин - Прощание с миром
Дождь, кстати сказать, очень быстро потом, я пе успел из леса этого выбраться даже, и двух километров, наверно, не прошел, как прекратился.
Палатка Анны была со мной до самого конца войны. Как-то так случилось, что я потом ни разу и не встретил ни Анну, ни се подруг. Один только раз, где-то уже перед самым Берлином, может быть уже за Одером даже, я увидел этих девушек, всю их роту, на марше, и, мне показалось, увидел даже ее, Анну, ее лицо и ее улыбку, но машина наша прошла быстро, мы их обогнали.
Встретил я ее только через два года после войны, в Москве уже, на вечере фронтовой поэзии в одной из аудиторий МГУ. Я стоял в зале, у стены, возле двери. Когда я оглянулся, у меня за спиной стояла Анна, так же, как и я, слушающая стихи молодых поэтов, вернувшихся с войны. Эго был один из первых вечеров молодой поэзии, проходивших в послевоенное время в Москве.
Мы посмеялись, что я так и не вернул ей эту ее плащ-накидку.
14
Как видно, моя командировка к члену Военного совета армии хотя и не сразу, как мы рассчитывали, но все же имела какой-то свой результат, потому что скоро нам разрешено было, через политотдел нашей дивизии опять же, взять для работы в редакции нашей многотиражки еще одного человека, а именно наборщика, без которого нам уже просто невозможно было выпускать газету. Наборщик был необходим, и его надо было искать, и не где-нибудь на стороне, а на месте, у себя же в дивизии, в полках. Вот почему, вернувшись однажды из политотдела, наш озабоченный редактор поставил передо мной вполне конкретную, хотя, может быть, и не такую простую задачу — немедленно отправиться в полкм пашей дивизии и во что бы то ни стало найти наборщика. И я, дело привычное, послушно собрался и отправился куда мне приказано было, чтобы найти такого солдата, который мог бы набирать, работал прежде наборщиком в типографии. Не такая уж это распространенная профессия!
Надо сказать, что мне повезло прежде всего в том, что дивизия в это время меняла расположение, мы были на марше, и я, за два или три дня, пропустил мимо себя всю нашу дивизию. Я обгонял роту, забегал вперед нее, становился на дороге, на обочине, и по мере того как растянувшиеся люди проходили мимо меня, проговаривал одну и ту же фразу: «Товарищи, наборщик среди вас есть?», «Наборщик есть среди вас, товарищи?». Многие, как видно, даже не понимали, о чем я их спрашиваю, какого такого наборщика мне надо, что это за наборщик такой…
Я так в течение трех дней, по крайней мере, пропустил мимо себя всю дивизию, все три полка, а если считать артиллерийский, то и четыре, все приданные подразделения, все хозяйственные взводы, все управление дивизии. Я уже совсем было отчаялся и уже перестал верить в успех, все более и более убеждаясь, что дело это безнадежное, что чудес не бывает, что дивизия хоть и большая, но найти в ней наборщика еще труднее, чем найти иголку в стогу, тем более если ее, этой иголки, нет.
И все-таки, в самом конце третьего дня, когда я, как мне казалось, пропустил уже мимо себя всю дивизию, в каком-то хозвзводике, который шагал мимо меня, на этот мой вопрос, есть ли наборщик среди них, — кто-то отозвался или даже поднял руку. Это оказалась девчонка. Я уже не помню, была ли она связисткой, а может быть, просто поваром, но только такая, с потопами пе то ефрейтора, не то младшего сержанта, вышла из колонны. По словам ее, она где-то училась и ей приходилось набирать. Я еще плохо верил в свою удачу, но очень скоро, через два или три дня, она была уже у нас в редакции, все было оформлено на этот раз довольно быстро.
Мы уже совсем было решили, что приобрели наборщика, что хоть разбирать набор, а сумеет, все легче станет старику Зайкову нашему. Но напрасно мы так радовались раньше времени. Никакой наборщицей она, эта с таким трудом разысканная мной девица, не стала, не была никогда, а если и была когда-то, то была очень слабой и нерадивой ученицей. Толку от нее было очень мало. Нам не скоро еще удалось избавиться от нее.
А старик Веретенников к нам потом вернулся, вернулся через некоторое время из своего артполка с двумя медалями «За отвагу» на груди и работал еще какое-то время у нас в редакции.
И все же потом, в Польше, мне снова пришлось искать наборщика в тех же наших полках.
Я уже знал на этот раз, еще когда выходил из редакции, что на передовой идут тяжелые бои. Потому что гул боя, как это редко бывало, на этот раз довольно явственно доносился до хутора, на котором мы стояли. Несмотря на всю дальность расстояния, он был хорошо слышен. И все-таки надо было прийти сюда, чтобы видеть, что здесь происходит. А происходило, коротко говоря, следующее: два наших батальона форсировали протекающую здесь реку, захватили плацдарм и, пытаясь удержать его, отбивали атаки противника. Не знаю, что это была за речка, я ее потом не нашел на карте.
Я пришел в один из этих батальонов, командира которого я знал еще по первым дням своего прихода в дивизию, но более всего — по боям за ту злополучную высотку Черную, за которую столько пролито было нашей крови…
Речка оказалась совсем маленькой, не очень быстрой и не очень широкой, а берега были вязкие, низкие, топкие. Окоп, в котором я сидел, был неглубок и наполовину заполнен водой, и, когда поблизости падал снаряд или рвалась мина, его стенки тряслись и качались, колыхались, как кисель, ходили из стороны в сторону. Это была в полном смысле слова трясина.
Я впервые видел такое… Немецкие самолеты шли волнами, бомбили переправу, бомбили передний край, наши позиции на той и на другой стороне реки. Шинели, каски, котелки, всякого рода оружие — все это было вбито, вколочено было в густую, тугую топь. В одном месте, в той же низине, совсем недалеко от меня, из перемешанной с железом глины, скорее всего опять же из засыпанного взрывом окопчика, высовывалась пола шинели. До сих пор в глазах у меня она, эта придавленная взрывом, высовывающаяся, торчащая из земли пола шинели!
День был очень красивый, солнечный, яркий, весь золотой от падающего в реку солнца, от прогретого солнцем сухого соснового леса, стоящего по-над берегом, за спиной у нас, от синего, с белыми облачками, неба. Не совсем, может быть, уже летний, но и без сколько-нибудь явных признаков осени. Только легкая прищурка сквозила во взгляде, каким смотрело солнце на реку, на окружающие ее леса. Редкостной красоты был день!
Плацдарм простреливался насквозь. Снаряды с грохотом, с визгом рвались на гребне, перед рекой, перед нашими окопами, отвесно падающие мины глухо, беззвучно уходили в трясину и выметывали оттуда фонтаны черной, жидкой и липкой грязи, ложившейся на песок, на траву, и закидывали, заляпывали нас с головы до ног.
Немцы были повыше, над нами, на холмах и высотах, полукругом обступавших берег, над берегом и над нами, сидевшими в своих вязких, пропитанных водой тесных окопчиках, наскоро выкопанных одиночных ячейках. Траншеи еще не были отрыты.
Худенький младший сержант, длинный, туго затянутый в поясе, тоненький, стройный, на глазах у меня тянул куда-то провод, ухнул с этой своей катушкой на спине в воду, только что провод один долго скакал по воде, а затем, с той же катушкой на спине, появился вблизи берега. Очень хорошо нырял, в сапогах, и гимнастерке…
Я два дня просидел в этом окопе, на берегу этой маленькой речки, и просидел, как оказалось, совершенно напрасно, абсолютно зря, потому что к тому времени, когда я вернулся в редакцию, немцы были уже окончательно сбиты со своего рубежа и началось наше наступление на этом участке. Моя заметка об обороне была не нужна, требовались материалы о наступлении.
16
Не помню, где я был в этот раз, помню только, что пришел поздно и заночевал. Ночь была очень холодная, и я, шинели со мной не было, сильно продрог, промерз сильно. Утром, когда немного обогрело, я ходил от командира к командиру, из одного взвода в другой и, как всегда, что-то записывал себе в блокнот, о чем-то расспрашивал, организовывал, как мы говорили, материал для газеты. Одним словом, собрал кой-какую информацию…
И вот, когда я все вроде бы уже сделал, со всеми вроде бы уже переговорил, к вечеру опять же, когда уже возвращался к себе, вышел из расположения роты, в которой я был, и, как мне показалось, уже даже отошел на довольно порядочное расстояние, я попал под сильный артиллерийский, но скорее даже под минометный обстрел. Я с ходу заскочил в какую-то полуразрушенную, сырую тоже землянку, в небольшой такой, давно уже брошенный блиндаж с сорванной, а может быть, и никогда не навешенной дверью входа. Перед ним, перед входом и перед блиндажом, расстилался неглубокий такой, неширокий овражек, небольшая такая, все еще зеленая лощинка. Я сидел в глубине этой стылой землянки, перед проемом двери, и на глазах у меня со страшным треском рвались мины. Я был один, а мины эти, упорно долбя по одному и тому же месту, рвались прямо передо мной, перед входом в блиндаж, в котором я сидел. Мне было страшно, как никогда еще не было страшно. Я не знаю даже, отчего это так было, почему я испытывал такой ни с чем не сравнимый страх. То ли оттого, что мины рвались за землянкой, в которой я был заперт, перед входом в нее, говоря другими словами, в тылу у меня, как бы отрезая, отсекая как бы меня от своих, то ли потому, что я только что находился вместе со всеми, там, где находились все, а теперь оказался совершенно один, ни одной живой души не было возле меня, так что, если бы меня накрыло здесь, в этом хилом, полураз-валившемся блиндаже, никто бы и не узнал никогда ничего обо мне, никто бы никогда не нашел меня здесь. Так или иначе, но такого сильного страха до того времени я никогда еще не испытывал за все то время, что я был под огнем. Казалось, что это не просто обстрел, но, может быть, за этим последовала попытка прорыва, что немцы давно уже где-то впереди, давно уже сбили роту, в которой я только что был, давно уже обошли ее, что ты заперт здесь, что ты окружен, не знаешь, что вокруг тебя делается, где немцы, где наши.