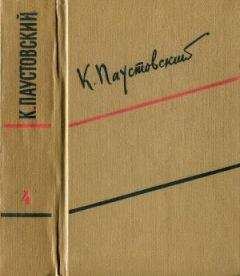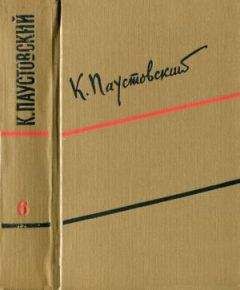Константин Паустовский - Том 5. Рассказы, сказки, литературные портреты
И хочется мне услышать его ответ, да что поделаешь – не будет этого ответа. Теперь уж мне самому приходится вытаскивать себя за шиворот на солнышко и устраивать самому себе великий спрос».
На этом кончалась Ванина запись, – может быть, потому, что кончалась тетрадка. Я решил обязательно уговорить Ваню писать дальше, запись его казалась мне оборванной совершенно случайно.
Ваня пришел ко мне через четыре дня. Зима к этому времени уже устоялась. Снег осел, на него слетели последние жухлые дубовые листья. А в полях еще торчала над снегом – но полосками, только по межам – сухая трава, будто кто расстелил желтые половики.
– Что ж ты, – сказал я Ване, – не написал, как ты старался выполнять в жизни четыре гайдаровских правила?
– Да как вам сказать… – ответил Ваня. – Я больше об Аркадии Петровиче хотел написать. Все, что помню. А писать насчет выполнения правил – это, выходит, писать про себя. Вроде как хвастаться. Со стороны видней.
Ваня был прав, конечно. О Ваниной честности ходили легенды по всей округе. То, что он хороший работник и тем самым хороший сын своей страны, могла доказать прежде всего Матрена Петровна. У нее был в то время один разговор.
– Да посодействуйте вы, – говорила она, – мне, старухе. Скажите Ване, нешто можно так, без продыху работать. Я его в избе вижу, бывает, раз в неделю. – Все ему некогда! Все заботы! До сих пор вот еще и не женился из-за этого «некогда». Виданное ли это дело!
– Со стороны, – сказал я Ване, – конечно, все видно для меня и для каждого. Вот только не видно, как это ты справился с собой, чтобы не скупиться.
Ваня засмеялся:
– Да очень просто. Скупость бывает разная, И личная и, можно сказать, общественная. Иной председатель колхоза трясется над своим делом до того, что из рамок своего колхоза никак выйти не хочет. Соседей боится: как бы чего не попросили, как бы им помощи не пришлось оказать. И я тоже о своем колхозе, конечно, трясусь. Но заставляю себя, да и односельчан своих пересиливать эту узость. Вот намедни косилки мы отдали в Окоемово. А отказать было очень просто: у нас они после сенокоса почти все требовали ремонта. Причина для отказа законная. А мы эти косилки отремонтировали для окоемовских за одну ночь.
– А как односельчане? – спросил я.
– Ругались сначала. А теперь привыкли. Теперь даже гордятся тем, что наше село считается отзывчивым…. – Ваня помолчал. – На днях подарил Лешке из Ласкова свой спиннинг. Оснащенный. Сам катушку к нему вытачивал. Красота, а не спиннинг! Как мне его жалко было, сказать не могу!
Ваня невольно вздохнул, а я рассмеялся. Ваня взглянул на меня и тоже рассмеялся.
– Ничего! – сказал он. – Мы и без спиннинга с вами наловим. Приходите ко мне под воскресенье, пойдем с ночевкой на озеро.
Я согласился. Мы пошли с Ваней на озеро и ночевали там. Это была одна из многих ночевок на озере, но я давно заметил, что каждая такая ночевка все больше прибавляет прелести этим родным рязанским местам.
1950
Астаповские пруды
Снег выпал только к Новому году, а до тех пор лежал над полями холодный туман. И, будто весной, с утра до самой темноты орали в старых вязах суетливые галки.
Вязы росли около колхозной чайной. Помещалась чайная в деревянном доме, на втором этаже. Дом стоял на выезде из поселка. Из окон чайной была видна железнодорожная станция: навалы каменного угля, огни на стрелках, зажженные днем из-за зимнего тумана, и клубы паровозного пара. Пар этот, казалось, ударялся о низкое пасмурное небо и расплывался вширь, сгущая морозный туман.
За станцией тянулась снежная равнина. И только далеко, на самом ее краю, были видны метлы облетевших тополей.
Бывалые люди, когда приезжают зимой в незнакомые места, прямо со станции идут в колхозную чайную. Прежде всего чтобы обогреться, а затем уже чтобы очутиться, наслушавшись разговоров, в гуще местных событий и дел.
Время было раннее. В чайной, кроме меня, пили за столиком чай две женщины – пожилая и молоденькая в красном клетчатом платке. Да в сторонке, у окна, сидел смуглый парень в синем ватнике, с гармоникой на коленях. Он изредка растягивал гармонику, тихо проигрывал вступление к вальсу и опять надолго замолкал.
Потом в чайную шумно вошел косматый старик и втащил с собою целую тучу тумана.
– Почтение, граждане! – сказал старик, стащил шапку и вытер рукой бороду. – Нахмурилось небо. Как бы снежок не посыпал. А то уж и вправду мы его заждались.
– Здорово, дед! – ответила из-за стойки подавальщица Саня, коренастая девушка в белом фартуке.
– У меня старость молодая, – ответил старик. – Дед-то я дед, а силу свою держу при себе. Не отпускаю.
Старик подошел к женщинам:
– Разрешите присесть. Время не позднее, и есть, значит, у нас возможность развернуть разговор про колхозную жизнь. И про все остальное. Верно, красавица?
– Красавицы все в Москве, – ответила девушка. – Туда за ними и поезжай! Ежели они тебе так уж больно нужны.
– А то как же! – убежденно воскликнул старик. – Красота жизнь озаряет. Сама ты красивая, а прикидываешься дурнушкой. Это, милая, грех!
– Что ты! – ответила девушка и покраснела. – С чего это ты взял?
– Будет девчонке паморки забивать! – сердито вмешалась пожилая женщина. – Нашел бы лучше иной разговор.
– Всякий разговор имеет свой смысл, – неожиданно сказал негромким голосом гармонист, – ежели к нему подходить со всей серьезностью.
– Вот-вот! – обрадовался старик. – Слыхали? А вы уж и рады на старика навалиться!
Девушка искоса взглянула на гармониста и покраснела еще сильнее. В чайную вошел матрос с Деревянным сундучком, чисто выбритый и строгий. Он поставил сундучок у стены и подсел к столику, где сидел гармонист.
– Отгулял, браток? – спросил гармонист. – Опять на море?
– Отгулял, – коротко согласился матрос.
Гармонист тронул гармонику, тихо заиграл и так же тихо запел:
Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали,
Товарищ, поедем далеко,
Подальше от нашей земли…
– Да-а, – сказал старик, дослушав песню. – Уезжает, значит, матрос в свои морские края. И никто по нем не плачет, никто его не провожает. Чем это, например, объяснить?
– Мать у меня старуха, – ответил матрос. – Ей не под силу.
– Это я хорошо понимаю. Только не об этом разговор. Неужто во всем колхозе не нашлось красавицы, чтобы с тобой попрощаться? Или там, на море, девушки лучше наших?
– Опять ты встрял со своими красавицами! – прикрикнула на старика пожилая женщина. – Другого рассуждения у тебя нету, старый бес!
– Эх, Прасковья, жизнь твоя вдовья! – вздохнул старик. – Я с тобой спорить совсем не желаю. Моя ли правда, иль нет – пускай общество нас рассудит.
– Уж оно рассудит! – с угрозой сказала пожилая женщина. – Ты на общество не больно надейся.
– Вот я и говорю, – сказал старик, как бы не слыша этих слов женщины, – что красота жизнь озаряет. Но к этому выводу нужно, мои милые, правильный сделать подход. Придется издалека заводить разговор, потому что, как я вижу, сидит здесь человек не нашего района, – старик кивнул в мою сторону, – Ему мои слова могут показаться в диковинку.
– А ты не наводи тень на ясный день, – заметила Саня. – Это человек московский. Он тебя отлично поймет.
– Вы, гражданин, – повернулся ко мне старик, – про наш район небось не слыхали? Так я вам должен об нем обсказать. Местность наша от самой седой древности была безлесная и безводная. Ближняя от нас река протекает далече, в ста километрах. И лесу у нас не было. Так, кой-где торчали рощицы. Все леса ушли к северу, на ту сторону Оки. Что говорить, там край хвойный, многошумный. А у нас кустику махонькому – и то не нарадуешься. Опахиваешь его со всем старанием, чтобы не задеть, не повредить.
– Ты про красавиц обещался рассказать, – напомнил старику гармонист, – а тянешь не в ту сторону.
– Як этому весь разговор подвожу. Потерпи, все в свой час узнаешь. Да-а! Советская наша власть терпеть такое положение, конечно, не может. Вышло постановление – городить плотинами овраги, прудить колхозные пруды и вдоль полей сажать повсеместно кудрявый лес.
– Да ну? – насмешливо спросила Саня. – Твои новости, дед, малость зачерствели.
– Будет и поновей разговор, – невозмутимо пообещал старик. – Ты вперед меня не заскакивай. Да-а! Леса, конечно, посадили. Это всем известно, поскольку мы сами их сажали, те леса. Третьего дня ехал я мимо Землянских посадок. Снежок выпал, а над снежком стоят сосенки, низенькие такие, свеженькие, и зеленеют далеко-далеко – насколько можно взором объять. Я лошадь остановил, слез с телеги, присел около сосенок этих, варежку снял и сижу, то одну, то другую сосенку трогаю. Гляжу – живут! Тянутся! «Эх, говорю, внучки вы мои милые! Хоть бы поглядеть, как вы до моего росту дотянетесь, да как под вами гриб маслюк из-под мха вылезет весь в соку, как в липучем своем молоке».