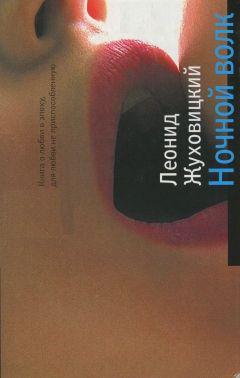Леонид Жуховицкий - Остановиться, оглянуться…
— Препарат надо пробить во что бы то ни стало. И надо как–то реабилитировать Егорова — на него все–таки пала некоторая тень…
О моей роли во всей этой истории Женька не говорил. Не потому, что не хотел сыпать соль на рану, а потому, что люди для него четко делились на хороших и плохих, причем хорошие в худшем случае могли только ошибаться, да и то не по своей вине.
— Действенней всего было бы, конечно, выступить в газете, — сказал Женька. — А попутно можно действовать через Министерство здравоохранения. Кстати, там работает один отличный мужик, мне про него рассказывал Балаян. Фамилия его…
Фамилию Женька не вспомнил и полез в записную книжку. У Одинцова были свои связи, у Женьки — свои.
— А что можно дать в газете? — спросил я.
Сам я об этом еще не думал и, говоря об опровержении, еще не представлял толком, как именно оно должно выглядеть.
Женька снова уткнулся в фельетон, скользнул взглядом по абзацам, словно выбирая место послабей, но, видимо, так и не выбрал.
— Это сложно, — проговорил он не слишком уверенно. — Факты у тебя, в общем–то, верны… Надо подумать.
Мы договорились, что подумаем оба.
— Будем действовать сразу по двум направлениям, — сказал он, — и через газету, и через министерство. Где–нибудь да получится.
Женька был оптимист, и я всегда удивлялся, что с возрастом оптимизма в нем не убывало. Он готов был хоть сто раз стучать кулаком в одну и ту же дверь, причем в сотый раз так же энергично и уверенно, как и первый. Бывали случаи, когда он добивался своего через год, через полтора. Иногда не добивался — но такие дела он просто не считал кончеными и упорно верил, что истина все равно победит…
Уходя, уже в дверях, Женька обернулся, и мне вдруг показалось, что вот сейчас он глянет на меня с такой же хмурой неловкостью, как Сашка при той нашей встрече. Но он просто спросил, во сколько летучка…
Черт! Мания какая–то…
Я хотел сразу поехать в Институт Палешана. Но возникли кое–какие дела — надо было сдать в номер строк сорок писем. Я возвращался из машбюро, когда меня остановил Д. Петров.
— Ты вот гуляешь, — сказал он, — а тебя ждут.
— Кто?
— Очень милая девушка. Я бы на твоем месте не томил ее так долго.
Даже в разговоре на столь вольную тему Д. Петров был безупречно корректен. Жаргонных выражений он вообще не употреблял, а выругался на моей памяти всего два раза, да и то в узкой компании, да и то шепотом.
— Врешь небось, — сказал я.
До сих пор он розыгрышами не отличался. Но ведь должен же он был когда–то приобщиться к древней журналистской традиции.
— А ты посмотри в окно, — сказал Д. — Внизу, в скверике.
Я посмотрел в окно и внизу, в скверике, увидел Светлану. Она сидела на лавочке, читала книгу и то и дело взглядывала на наш подъезд. Она была в черном осеннем пальто из какой–то синтетики — в таких ходит пол–Москвы, — и на черном мягко светлела ее переброшенная на грудь коса.
Я почти не думал о ней после того разговора с Сашкой. Слишком уж было не до нее, и, что куда существенней, слишком уж мало иллюзий осталось у меня на ее счет.
Мне не хотелось быть выдумкой восемнадцатилетней девчонки. Не хотелось быть гуманитарником, таким грубым внешне и таким нежным на самом деле. Пока устраивал и собственный характер…
Впрочем, если бы я и вздумал его менять, я вряд ли вспомнил бы обаятельную ухмылку киногероя — уж скорей добродушные, чуть усталые, все понимающие глаза Касьянова…
Я вычитал текст с машинки, отнес в секретариат. Потом позвонил в Институт Палешана и узнал, что кандидат наук Леонтьев на работе, но сейчас у них совещание, освободится минут через сорок. Это меня устраивало— с таким делом, как мое, лучше приехать без звонка.
Трубку я все еще держал в руке и, наверное, поэтому вдруг почувствовал странную потребность кому–нибудь позвонить. Просто позвонить и потрепаться, просто вырваться на минуту из круга дел, почувствовать, что жизнь движется и, что бы там с тобой ни случилось, ты всего только матрос на ее палубе…
Я перебрал в уме десяток фамилий и поводов и наконец позвонил Левке Хворину, который недавно женился, подтвердив тем самым гениальную догадку какого–то гуманиста, что архитекторы тоже люди.
Я поздравил его и спросил, кому лучше жить, женатому или холостому.
Левка ответил:
— М–м…
— Ясно, старик, — сказал я…
Он заторопился:
— Да нет, ты не подумай…
— Не буду, — пообещал я. — Машину починил?
Он сказал, что чинится, после чего подробно остановился на проблеме запчастей.
Я спросил:
— Так как все–таки лучше — с машиной или без?
Тут он не колебался:
— Это даже не вопрос.
Мы потрепались еще немного и распрощались, договорившись, естественно, встретиться как–нибудь на днях. Последний раз мы договаривались об этом месяца три назад, когда я вернулся из Таллина и хотел рассказать Левке о тамошней архитектуре. Но я был слишком полон увиденным, не смог остановиться и выговорился тут же, по телефону. И как–то само собой получилось, что больше видеться незачем…
Я спустился вниз. Светлана по–прежнему сидела на лавочке, и ее смущенно кадрил какой–то парень. Он был молоденький, вежливый и говорил, наверное, об искусстве.
Светлана увидела меня, сказала парню что–то извиняющееся и быстро пошла ко мне.
Я спросил:
— Ты как тут оказалась?
Она ответила:
— У меня сегодня свободный день. Я думала, вдруг тебе еще куда–нибудь надо пойти. Ты сейчас никуда не идешь?
— Иду, как видишь.
— Можно мне тебя проводить?
— Пойди попрощайся с мальчиком, — сказал я.
Она несмело улыбнулась:
— Это вовсе не нужно. Он просто спросил, что я читаю.
Мы пошли к остановке троллейбуса. Я сказал:
— Сашку давно видела?
Опустив голову, она тихо ответила:
— Давно…
Я покачал головой:
— Думал, ты хоть что–нибудь тогда поняла.
— Я все поняла. Но я не могу…
Мне не понравилось, как она это сказала. Не понравилось, как она шла, низко опустив голову — классическая поза вины, не понравилось, как глухо, словно чужой, звучал ее голос — классическая интонация беспомощности перед лицом собственной любви.
Она тоже играла роль в своем спектакле, хотя, надо отдать ей должное, играла не для меня — она была и автором, и режиссером, и единственным зрителем.
Она шла, низко опустив голову, беспомощная и сосредоточенная, — олицетворение цельной и непреоборимой любви. И с высоты этой цельности плевать ей было на Сашку — Сашка остался позади, это пройденный этап, ведь она не может иначе…
И с высоты этой непреоборимой любви плевать ей было на меня — о чем я думаю, и куда сейчас иду, и чего хочу, и чем живу, — плевать ей было на меня, ибо и сам я существовал лишь при этой непреоборимой любви как се объект.
Она приняла решение и вот теперь пришла, чтобы вручить мне свою судьбу, свою цельность, и с высоты этого плевать ей было на весь белый свет и на меня в том числе!
Но я относился к белому свету несколько лучше, а к себе несколько внимательней. И я достаточно отчетливо понимал, к чему поведет вся эта романтическая поэма.
Один раз я уже потерял ее, тогда, на странном дне рождения, на третьем этаже больничного корпуса, в комнате с безликим белым шкафом, кушеткой и бормашиной. Тогда я понял, что не она будет меня провожать в командировки, и не она встречать, и не она родит мне детей, и не ею я буду молча хвастать перед ребятами, и не она будет ходить со мной на футбол и на бокс и под рев толпы послушно смотреть на непонятное действо.
Все это я уже потерял один раз. А дважды терять одно и то же — слишком большая роскошь…
Мы дошли до проспекта, и я сказал ей:
— Ну, мне на троллейбус.
Она подняла голову и стала ждать, что я ей скажу. Но я молчал, и она спросила:
— А можно я с тобой?
— Куда?
— Все равно, куда, — ответила она так же негромко и глуховато.
— Ну давай. Только зачем тебе терять столько времени?
Она снова опустила голову:
— Ты же знаешь.
— Потому, что я занял вакантное место идеала?
Она помедлив, попросила:
— Не надо так об этом говорить.
На этот раз ей, кажется, было больно по–настоящему. И вообще тут она была права, и я сказал:
— Хорошо. Больше не буду.
Минут пять мы ждали троллейбуса. Эти минуты, естественно, тоже ничего не решали, к Леонтьеву я успевал. И все–таки меня бесило бесцельно уходящее время.
Я даже сошел на мостовую и то и дело привставал на цыпочки, чтобы лучше высмотреть в толчее за перекрестком синюю тушу троллейбуса. А Светлана спокойно стояла на остановке, и мне было слегка неловко перед ней за эту свою бессмысленную суетливость.
Я ей даже позавидовал. Счастливая девчонка! Лицо у нее тревожное и сосредоточенное, а стоит спокойно. Ей некуда торопиться: весь ворох своих забот она носит с собой, и потому любое время для нее — важное и наполненное.