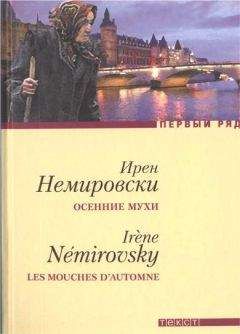Георгий Халилецкий - Осенние дожди
— Что ж, как говорится, кума с воза...
— Да ведь воз-то у нас единый. Что здесь, что на Иртыше, что на Волге. То и тревожит, что он, глядишь, опять где-нибудь выплывет.— Помедлил.— Между прочим, в тумбочке у него нашли пачку сектантских изданий. «Башня стражи» и другие.
— «Башня стражи» — это орган секты «свидетелей Иеговы»?
— А черт их разберет! Одинаково стремятся оторвать человека от общества, сделать его одиночкой.
На перекрестке мы останавливаемся.
— Ну, ступай,— говорит Руденко.— Тебя там небось заждались.
3
Бригада в сборе, все чем-то взволнованы. Переглядываются, но молчат.
— Да уж ладно,— говорю.— Не моргали бы друг другу. Выкладывайте, что стряслось?
— А кто моргает? — Шершавый делает вид, что обиделся.— Выдумаете, Алексей Кирьянович! Сидим чин чинаром, и вдруг нате вам: моргаем!..— Не выдерживает и орет ликующе: — Алешка отыскался!
— Алешка?! Откуда узнали?
— Телеграмму прислал,— опередил его Шайдулин, а Серега поправляет;
— Две телеграммы: одну Анюте, другую Лукину.
И только тут я замечаю, что Лукина в бараке нет.
— А он на узел связи пошел,— объясняет Борис.— Надо ответ дать.
— Какого рода телеграмма, о чем?
— Спрашивает: простит ли бригада, примем ли назад.
Я ищу взглядом Романа. Он стоит, прижав ладони к обшитой железными листами печи, молчит. Лицо замкнутое, хмурое, какое-то потерянное. Затягивается дымом, кашляет.
— Паршивый табак.
Голос у него глухой, растерянный. Докуривает, бросает окурок в печку, говорит сам себе:
— Пройтись, что ли? — Одевается и уходит.
Борис, зачем-то оглянувшись на дверь, торопливо объясняет:
— Роману-то Алешка еще раньше написал. Только Роман боялся нам сказать. Потом второе письмо было уже из-под Курска. Ни в чем, говорит, ты передо мной не виноват, это я теперь в точности знаю. Не казни себя и не убивайся.
— Да тебе откуда известно? — искренне удивляется Шершавый.— Он что, докладывал?
— А с кем человеку поделиться, как не со мной? — невозмутимо отвечает Борис.— Не с тобой же, балаболкой.
Шайдулин осуждающе качает головой:
— Опять схватились.
Ночью мне не спится. Слишком много впечатлений. Ворочаюсь, в десятый раз тянусь за сигаретами — и не закуриваю. Люди спят, что ж я буду дымить?
Но, оказывается, не спит никто. Лукин нашаривает в темноте пачку, вполголоса предлагает:
— Что, Кирьяныч, кончились? Закуривай мои.
— Кинь заодно и мне,— просит Серега.
Лежим, дымим, молчим.
— Как думаете,— подает голос Шайдулин: а мы-то были убеждены, что он единственный спит! — Как думаете, если я напишу жене, чтобы она собралась и приехала сюда?
— На совсем?
— Конечно. С сыном...
Серега заключает категорически:
— Блажь!
— Ну почему блажь? — вмешивается Борис.— Не вижу тут никакой блажи. Бараки? И что? Уже заселяют дома.
— Да ты возьми в толк,— горячится Серега.— Разве дело только в бараках? Шараф — он кто? Строитель. А это что значит? Положил последний кирпич, помахал ручкой — и «Пишите нам, подруги, по новым адресам». Привет! И он что же, своего Шарафа будет повсюду таскать за собой? По всему Союзу?
— Оно, конечно,— соглашается Борис.— Но и в одиночку жить, когда есть семья, тоже, согласитесь, не малина.
— Я же живу. И ничего,— подает голос бригадир.
— Ну и сколько лет ты так живешь?
— Да сколько? Считай, лет двадцать. Нет, больше.
— И тебе — что, ни разу не захотелось плюнуть на все? — продолжает допытываться Борис.— Ты что, не такой, как все?
— Я плюну. Ты плюнешь. Кто же города строить будет? Плюнуть — самое простое. Есть, брат, в устройство нашей жизни своя разумность.
— Да, но и Шарафу семью таскать...
— Зачем таскать? — вмешивается Шайдулин.— Почему обязательно таскать? Я уже все обдумал. Пойду в техникум, буду химиком.— Он произносит: «химикум».
— «Речь не мальчика, но мужа»,— торжественно провозглашает Серега.— Умница, Шараф. Спим.
И все-таки мы не спим. Лежим и думаем, каждый о своем. И уже вот-вот рассвет забрезжит, когда наконец Лукин спохватывается:
— Давайте хоть немного поспим. А то Кирьяныч приедет к жене, скажет, там все лунатики какие-то.
Огромная луна глядит в окно барака.
Я слышу осторожный шепот:
— Борьк, спишь?
— Ну?
— А вот эти курсы. Лаборантов, что ли... Там как, вступительные надо? Всякие разные физики — химии?
— А тебе-то что за печаль?
— Просто так. Спросить нельзя?
— Поступать надумал, что ли?
Долгое молчание. Потом Шершавый произносит нехотя:
— Видел я ваши курсы... в белых тапочках.
— Балаболка и есть. Спи, не мешай.
Перед утром мне приснился город немыслимой красоты. Его улицы широки и затенены вековыми деревьями, и неоновые яркие строчки сверкают над крышами многоэтажных домов, затерявшимися где-то в высоких кронах деревьев. Я знаю, я в точности знаю, что это тот самый поселок, где я сейчас сплю и вижу этот сон, и все же не могу поверить, что наш таежный поселок и этот город — одно и то же; и, наверное, не поверил бы, если б не Шершавый. Важный, полный, с пенсне на плотной переносице, он идет чуть впереди меня и солидно говорит: «А вот тут, если помните, стоял девятнадцатый барак...»
Глава двадцатая
Антонина не бросает слов на ветер. Мне-то, грешным делом, думалось, что вся эта ее затея с олимпиадой так, от скуки дальних мест.
Серега Шершавый вечерами в последние дни стал куда-то исчезать, и мы все насторожились: куда? Уж не влюбился ли?
— А что думаете? — разглагольствовал Борис.— Он такой: влюбится — так до умопомраченья. Под окнами будет дежурить, на морозе коченеть, лишь бы хоть разок поглядеть на свою Дульцинею.
— Да не трепи ты языком,— с неожиданной суровостью обрывает его бригадир.— Будто не знаешь, что, кроме Анюты, ему никто не нужен.
— Значит, он там, при больнице.
— Ничего не значит. Я в точности знаю, когда он бывает у Анюты.
Секрет открылся случайно. В один из вечеров Антонина зашла ко мне посоветоваться по программе предстоящего концерта. Рассказывала с воодушевлением о каждом из будущих номеров, потом вскользь заметила:
— Если бы не ваш Бугаенко, даже не знаю, как бы справилась. Тут работы!..
— Кто-кто? — насторожился сидевший поодаль бригадир.
— Ну, Бугаенко, Сережа.— Антонина глядела на Лукина с некоторым недоумением.
— Почему — Бугаенко?
— Разве он вам не сказал? У него в документах какая-то путаница, и он об этом написал куда-то, просит восстановить фамилию. Сказал, чтобы в концертной программе стояло не Шершавый, а Бугаенко.
Мы молча переглянулись.
В пятницу, с самого утра, Серега крутится возле меня, полный предупредительности: «Алексей Кирьянович, может, сбегать на почту? Алексей Кирьянович, давайте я вам, костюм выглажу?»
— Ты чего это его охаживаешь, Лиса Патрикеевна? — удивился Лукин.
— А что: не имею права уважить человека?
— Будто я тебя не знаю,— рассмеялся бригадир.— Выкладывай начистоту: что стряслось?
— Ох, Лукин, не умрешь ты своей смертью!..— Сергей повернулся ко мне.— Алексей Кирьянович, вы ведь тоже в жюри?
— И что?
— А помните — у Грибоедова: «Ну как не порадеть родному человечку»? А? — Он выжидательно, прижал голоду к плечу, и в глазах его запрыгали веселые чертики.
— Что я говорил? — расхохотался Лукин.— Знаем свои кадры.
И вот в клубе, жарко натопленном и по случаю смотра украшенном гирляндами из флажков и пахучих еловых ветвей, как говорится, яблоку негде упасть.
Наконец шум в зале мало-помалу умолк, люди расселись, выжидательно покашляли, и тогда на сцену, на передний ее край, вышла Наташа-библиотекарь. Она сегодня чудо как хороша! В мини-юбочке, открывающей стройные молодые ноги, в модной кофточке, с чуть подведенными ресницами. Хороша молодостью, смущенностью, бархатной теплотой взволнованного взгляда.
Выждав, когда улягутся аплодисменты, она помедлила и негромко сказала:
— Начинаем конкурсный смотр рабочей художественной самодеятельности. Конкурс судит жюри в составе...
И она перечислила фамилии, в том числе и мою. Лукин — он, оказывается, устроился за моей спиною,— с дружелюбной насмешливостью шепнул:
— Растешь, Кирьяныч!
А Наташа, выдержав паузу, сообщила:
— Первым выступает участник соревнования за коммунистический труд, член комплексной строительной бригады Сергей Бугаенко. Русская балалайка.
И отступила на шаг в сторону, как это делают настоящие конферансье. Из-за кулис, кланяясь, выступил Серега. Одной рукой он нес впереди себя стул, другой прижимал к груди знакомую мне балалайку. Он поставил стул, поглядел на него в задумчивости, передвинул зачем-то в сторону, присел, будто примериваясь, снова встал и передвинул стул еще чуть левее. В зале дружелюбно рассмеялись. Тем временем Серега поправил модный галстучек, задумался, словно размышляя, что же нам сыграть? — и вдруг, решительно и резко ударил по струнам: