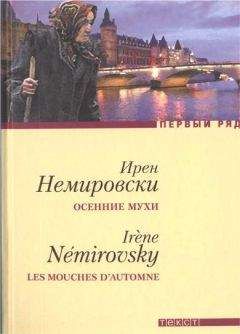Георгий Халилецкий - Осенние дожди
А Лукин ему: «А и подскажу. Сейчас подскажу, Забирай коньяк и уходи, пока ребята не пришли. Негоже это — начальнику строительства выпивать с подчиненными». А ты говоришь — Лукин!
Я слушал Руденко и думал: как же опасно для нашего брата литератора пытаться подойти к человеку с заранее заготовленной мерочкой! А мерочка подводит. Сколько на этом теряем мы сами, сколько теряют читатель и зритель!
А Руденко заговорил о другом:
— В Америке, помню,— нас перед началом строительства туда с Виленом командировали, ознакомиться с американским производством кордной целлюлозы,— приехали на один завод. Только начали беседовать с главным инженером — звонок: обеденный перерыв. Хозяин: «Извините, мне пора кушать. Если желаете пообедать, вас проводят». Мы, конечно, отказались. Он еще раз извинился и ушел. А я возмутился: не каждый, мол, день приезжают коллеги из России, мог бы разок и поголодать. А Солодов смеется: «А по-моему, говорит, только так и нужно. Порядок, так уж во всем порядок», Кстати, потом узнали, что на этот завод приезжает в год до трехсот делегаций. Тут с показной вежливостью ноги протянешь...
Я не сразу сообразил, к чему это он, собственно, рассказывает. Но он тут же сам пояснил:
— Хитрые бестии эти проектанты. Спорить с самим Виленом в открытую у них пороха не хватает: он-то как специалист посильнее. Вот они и решили в его отсутствие склонить меня на свою сторону. И ладно б говорили о достоинствах проекта, а то все о том, что Солодов слишком категоричен...— Широко улыбнулся.— Будто я без них этого не знаю!
Он помедлил, глядя куда-то вдаль, за окно, Потом задумчиво произнес:
— Вот бы кого тебе в пьесе изобразить: Солодова. Только не пиши его, ради бога, одной краской!
Неожиданно для самого себя, я сказал:
— У меня когда-то была мечта: написать о человеке целиком по рассказам людей, окружающих его...
Руденко бросил в мою сторону быстрый взгляд:
— А что думаешь? Не так уж это глупо. Наверное, ни в чем человек так не раскрывается, как в умении строить взаимоотношения. Вон, я читал недавно: на одном заводе социологи заинтересовались, по каким главным причинам люди увольняются. Известно, что таких причин обычно три: нет квартир, мал заработок или невозможно устроить ребенка в ясли-садик. И вот они стали задавать вопрос всем, кто приходил в отдел кадров с заявлением: если вам эти три условия будут обеспечены, останетесь на заводе? И что думаешь, девяносто процентов ответили: нет! Оказалось, главная причина — неверные взаимоотношения с бригадиром, мастером, начальником участка. То самое, что сейчас принято называть психологической несовместимостью... Ну, а социологи — ребята не дураки, задумались: рабочий — парень молодой, но ведь и мастер тоже молодой. Одного выводка, одной формации оба — откуда же этот конфликт!..
— Любопытно. И докопались?
— А то как же? Все просто: в наших вузовских программах нет ни одного часа — ты, старина, вдумайся в это: ни одного часа! — на производственную педагогику. Молодые инженеры и рады бы по-иному строить отношения с подчиненными, но как это но науке сделать — не знают. Вот так... А я сегодня после работы собирался заглянуть к тебе.
— Что-нибудь случилось?
— Да нет. Соскучился. И потом, Антонина просила передать: в пятницу олимпиада, ты у них там член жюри.
— Не знаю. Я уж вещички укладываю. Вот зашел, думал, что Солодов возвратился. Надо бы наконец мне познакомиться с ним поближе. И за гостеприимство поблагодарить.
— Э, нет, брат, олимпиада — дело святое,— заартачился Руденко.— Я сторонник того, чтобы ты скорей домой возвращался. Но тут прошу: задержись.
Зазвонил телефон. Руденко, не торопясь, снял трубку:
— Да... Вилен Александрович? Богатым будешь, по голосу тебя не узнал... Да вот, сидим с Алексеем Кирьяновичем, косточки твои перемываем. Он, собственно, к тебе пришел — проститься. Уезжает. Задержать? Да уж и то — агитирую... А я ему сейчас трубку передам.— Он протянул мне трубку, еще хранившую тепло его руки.
— Алексей Кирьянович, что ж это вы не дождались меня? — услышал я голос Солодова.
— Пожил. Хватит. Пора восвояси. Да, может, еще и увидимся? Вы когда возвращаетесь?
Он досадливо крякнул;
— В том-то и дело, что приказано задержаться. Тут целая комиссия формируется. Тогда так, Алексей Кирьянович: если мы все-таки разминемся, разрешите навестить вас при случае в городе?
Я заверил, что был бы рад его приходу.
— Ну будьте счастливы,— произнес Солодов.— Дайте трубку Руденко.
Он долго что-то объяснял ему, тот слушал и посмеивался.
— Все будет сделано, как в лучших домах. До встречи.— Он положил трубку.
Руденко побарабанил по стеклу стола.
— За что я люблю Вилена? — продолжал он после недолгого молчания.— Вот он и такой, и сякой, и растакой. Характер — кошмар. Вспыльчив, резок... Но вот эта его нетерпимость к скудоумию...— Он вдруг резко поднялся.— Ты согласен, что в наш век скудоумие не просто досадный факт. К нему надо быть нетерпимым. Абсолютно нетерпимым!
— В идеале, конечно.
— Ах, при чем тут идеал? — Руденко поморщился.— Умное время требует умных поступков. На преодоление глупости история нам ни средств, ни времени не отпустила. То я говорю?
— Приблизительно.
— Что значит — приблизительно? Что это за любовь к обтекаемым формулировкам? Не приблизительно, а точно... Слушай, пойдем-ка ко мне домой? Антонина будет рада.— И, понизив голос, добавил:— У меня есть бутылка сухого болгарского! Так как, пойдем?
— Где наше не пропадало! — вздохнул я.
— Что ж, Алексей Кирьянович, за взаимопонимание? Бери бокал, бери. Вино неплохое.
— Давай долью,— говорит мужу Антонина и глядит на него влюбленно.— Торопыга. Раньше всех выпил.
— Доливай,— согласился Руденко, подставляя длинноногий бокал.— Ты, старина, не стесняйся. Тонечка у нас — женщина хлебосольная, видишь, она даже для мужа ничего не жалеет.
— Молчи уж, сиротка,— останавливает его жена и усмехается.
Нет, дорогие мои, все-таки есть удивительная, веками подтвержденная радость в том, чему имя — человеческое общение. Вот мы сидим, три несхожих друг с другом человека, которые втроем, вместе, может, никогда больше уже и не соберутся; и мы ни капельки не опьянели, потому что вино-то действительно сухое, безградусное, болгары его делать умеют; и потягиваем благородный сок, собравший в себя полуденный зной горных склонов, и прохладу рассветов, и золото жарких закатов, и звездное мерцанье летних ночей. И никаких значительных слов между нами не было произнесено. И сидим мы, три уже немолодых человека, и толкуем о событиях на Ближнем Востоке, и о полетах советских и американских космонавтов, и о всякой другой всячине, и я бормочу пушкинское: «...Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней», и ни Антонину, ни Руденко это ничуть не удивляет; и еще пьем мы за женщин, без которых жизнь не жизнь и радость не радость; и грызем жесткие узбекские яблоки, и всем троим нам сейчас хорошо-хорошо, так хорошо, что не передать этого никакими словами. И, может, от одного только мне грустно: нет сейчас в нашей компании Кати-Катерины.
Запиши наш разговор в эти минуты — получилась бы довольпо сложная кривая.
— Други мои хорошие,— говорю я растроганно. — Вот ехал я к вам, и сам толком не знал, зачем еду, что ищу? А столько здесь людей повидал, и каких людей! Жизнь передо мною распахнулась, сижу вот и думаю: на этот бы типаж да пушкинский талант.
Руденко, когда я собрался наконец уходить, тоже стал одеваться.
— Я тебя провожу, Кирьяныч. Мне все равно идти в ту сторону.
Легкий морозец пощипывает щеки. Ветер утих, и в недвижимом воздухе величественно всплывают дымы над трубами бараков. Пахнет смолисто и густо: печи топят сосною; к этому примешивается запах теплого хлеба, людского жилья. Закат широким заревом расплеснут над иссиня-черной тайгою, над грядою сопок, скрывая расстояния. На вершинах сопок лежит оранжево-розовый снег.
— Нет, ты только погляди, красота какая!— Руденко глубоко, с жадностью вдыхает воздух, расширенными от восторга глазами оглядывает все вокруг.— Где еще найдешь такую красоту? — И совершенно другим, озабоченным топом спрашивает:
— Слыхал новость? Маркел-то скрылся.
— Как это — скрылся?
— А как скрываются? Исчез, и все. Барахло оставил в общежитии нетронутым.
— Может, с ним что случилось?
— Вчера он в сберкассе забрал все деньги, до копейки. Зачем, думаешь? Ему девчата предлагали: вы хоть сколько-нибудь оставьте, чтобы счет не закрывать. А он: «Не могу. Предстоит большой расход».
— Это не доказательство.
— А то, что он у коменданта паспорт забрал, тебе ни о чем не говорит? Да и видели его на станции. Крутился возле кассы.
— Что ж, как говорится, кума с воза...
— Да ведь воз-то у нас единый. Что здесь, что на Иртыше, что на Волге. То и тревожит, что он, глядишь, опять где-нибудь выплывет.— Помедлил.— Между прочим, в тумбочке у него нашли пачку сектантских изданий. «Башня стражи» и другие.