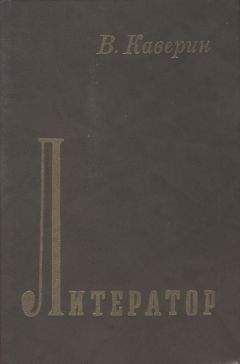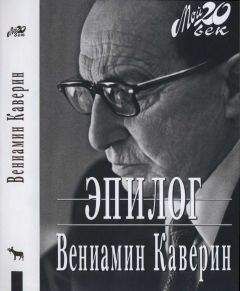Вениамин Каверин - Избранное
— Очень не-ду-рен, — по слогам сказал он, — и глаза такие, что, наверно, все встречные женщины оглядываются и запоминают. Ну, как дела? Что вы сделали для своего бессмертия, пока мы не видались?
— Знаете что, идете вы к черту, — пробормотал Трубачевский.
Неворожин вытянул губы, сделал большие глаза.
— Много. Вы много сделали, — с удовольствием сказал он, — две недели назад вы бы так не сказали. Думали ли вы… Впрочем, нет! Я по глазам вижу, что вам некогда было думать.
— Оставим этот разговор, — решительно сказал Трубачевский.
Неворожин сморщился, потом улыбнулся.
— Отложим. Не оставим, а отложим… Послушайте, — вдруг сказал он сердечно и обнял Трубачевского за плечи, — я вижу по вашим глазам, что через месяц или два вам понадобятся деньги. Прошу вас, вспомните тогда, что у вас есть друг, который может ссудить вам сколько угодно.
Он вежливо приподнял шляпу. Опустив голову, Трубачевский стоял перед ним…
Иногда — это были самые лучшие дни — он находил ее неодетой с утра, непричесанной, в летнем ситцевом платье; трубка снята, радио выключено, и Даше сказано, что ни для кого нет дома. Они разговаривали. Он рассказывал о себе, — никогда и ни с кем он не был так откровенен. Он рассказывал о детстве в доме придворного оркестра, где жили только музыканты и где по утрам доносились из одного окна звуки корнета, из другого — контрабаса, из третьего — скрипки. Он помнил еще странные обычаи этого дома, скандалы, сплетни и свадьбы. Это был круг замкнутый, чудаковатый, со своими фантазерами, франтами и карьеристами. Карьеристов ненавидели, франтов и фантазеров уважали.
Он рассказал ей о первой любви. Десяти лет он влюбился в невесту одного гобоиста, портниху двадцати трех лет, важную и тяжелую, с черными густыми бровями. Прочитав где-то, что влюбленные кончают самоубийством, он немедленно повесился на дверце голландской печки. Кухарка вынула его из петли полумертвого, с прикушенным языком.
Он рассказывал о школе. Он поступил в восемнадцатом году, — что это была за каша! Анархо-синдикалист Кивит из четвертого класса спрятал в учительской какую-то смесь, вонявшую так, что француженку вынесли без сознания. Тот же Кивит, явившись в класс с револьвером, низложил директора и объявил гимназию автономной.
Он рассказывал о матери и однажды принес ее фотографию: у бутафорского барьера стояла девочка в форменном коричневом платье, с распущенными волосами, со скрипкой в руках. Когда ему было шесть лет, она развелась с отцом и уехала за границу. Она прислала оттуда открытку «для Коли», и он на всю жизнь запомнил эту открытку: фонтаны в саду, дамы под китайскими зонтиками, в шляпах с большими полями, мужчины в котелках и канотье, белая эстрада, аллеи. Это был Наугейм, немецкий курорт, в котором она умерла. Иногда он снился ему: мама идет по аллее, офицер отдает ей честь, она кивает и смеется.
Офицер снился не случайно. Об офицерах отец до сих пор вспоминал с отвращением. Февральскую революцию он одно время признавал исключительно за то, что она отменила привилегии офицеров.
Первый раз в жизни было рассказано все — именно ей, усталой, непричесанной, с папиросой в зубах, в расшитом лилиями японском халате…
Случалось, что среди всего этого нашествия чувств он натыкался на Машеньку — то наяву, то в воображении. Он встречал ее и, стараясь не смотреть в глаза, справлялся о здоровье Сергея Ивановича. Она отвечала ровным голосом, как будто ничего не случилось. На ровный голос у нее хватало силы. Но лицо было расстроенное, недоумевающее: она не понимала, что с ним происходит.
Несколько раз, занимаясь в архиве, он слышал знакомые шаги — туда и назад, мимо двери, по коридору. Но он не окликнул, не вышел. Это было очень давно — острова, нежно-розовый Будда с ленивыми раскосыми глазами, монах в красной рясе, который напугал их, внезапно появившись на пороге храма.
4Бауэр вернулся в начале августа. Операция была отложена, несмотря на то, что три врача из двенадцати утверждали, что нужно немедленно резать. Из оставшихся девяти четыре предлагали лечение радием, два — рентгеном, а три, среди которых один знаменитый, говорили, что он совершенно здоров.
Последний диагноз понравился ему своею смелостью.
— Я им говорю, — рассказывал он, вернувшись, — как же здоров, если все-таки боли такие и вот… слабость. А они говорят: «Какие же у вас, Сергей Иваныч, боли? Мы вас изучили и нашли, что никаких болей нет». Не нашли болей. Целый месяц изучали меня и не нашли. Значит, нету.
Он очень соскучился за этот месяц и уже на следующий день после возвращения засел за работу. Он давно не читал лекций, но теперь объявил, что желает в наступающем учебном году прочитать курс русской истории в университете, и, отложив все другие дела, принялся за подготовку к этому курсу. Он разбил день пополам: вставал очень рано, в шестом часу утра, и работал до двенадцати, потом завтракал, гулял, читал газеты и письма. После обеда спал полтора часа, а потом снова садился за письменный стол, строго наказав Анне Филипповне, чтобы всех, кто ни явится, гнать, а по телефону говорить, что нет дома. Болей согласно диагнозу не было. Но иногда, бросив работу, он ложился вниз животом на кушетку и начинал потихоньку кряхтеть и отдуваться. Он сразу худел, на глазах, лицо становилось землистым, с горбатым носом, с жалким седым хохолком волос, поднимавшимся откуда-то сзади, с макушки. Вежливый, тихий, лежал он, за все благодарил и от всего отказывался. Он лучше всех двенадцати докторов понимал, что песня спета.
Трубачевский отчитался перед ним и вернул ключи. Каждый день он собирался передать ему разговор с Неворожиным — и не мог решиться. Это было не легкое дело — объявить старику, что бумаги, пропажу которых он обнаружил весной, были украдены его сыном, что кто-то покушается расхитить архив, который он собирал всю жизнь.
Прошла неделя, прежде чем он собрался с духом.
— Сергей Иваныч, а я и не знал, что у вас есть такие автографы, — немного волнуясь, сказал он. — .Письма Петра, Екатерины… Просто в руках держать страшно.
— Да, есть, — кратко ответил Бауэр.
— И неизвестные?
— Есть и неизвестные.
— А почему же вы их… не издадите? — с трудом спросил Трубачевский.
— Со временем издам. А вы что? Думаете, не мешает поторопиться?
— Сергей Иваныч, да что вы! Я просто подумал…
Он вдруг покраснел и замолчал так же неожиданно, как и начал. Бауэр тоже помолчал, потом уставился на него исподлобья.
— Ну, в чем дело, говорите, — просто сказал он.
— Сергей Иваныч, эти бумаги… Они ведь очень дорогие, наверно… Если их продать… за деньги.
Бауэр сердито поднял брови.
— Я бы полагал, — медленно сказал он, — что для вас приличнее интересоваться содержанием этих бумаг, чем сколько они денег стоят. Не знаю, не считал. Продавать не намерен.
— Сергей Иваныч, вы меня не поняли, — с ужасом возразил Трубачевский, — я только хотел сказать, что, может быть, их дома держать… небезопасно.
Он оборвал, потому что у Бауэра вдруг стало тяжелое лицо. Губы набухли, он выпрямился и снова согнулся.
— То есть как это небезопасно?
Трубачевский начал объяснять — и осекся, так далеко было от этого невинного слова до того, о чем он хотел рассказать старику!
Ничего, кажется, не переменилось после этого разговора. С прежней добродушной суровостью Бауэр выслушивал его отчеты, а намерение написать «Пушкин в Каменке» даже одобрил.
— Только не советую я вам писать книгу. Рано еще вам писать книги. Вам нужно рефераты писать. И читать надо. А вы точно подрядились открытия делать.
Это было сказано сердечно и сердито, то есть так, как он и прежде говорил с Трубачевским. По глаза были другие — настороженные, незнакомые.
5Этот день начался головной болью. Он знал, что нужно сейчас же встать и умыться, но силы не было встать, и он полежал еще немного, повернувшись на бок и уставившись на узор занавески, нарисованной солнцем на полу. Он не заметил, как снова уснул. Отец разбудил его за полдень. Солнца уже не было в комнате: стул, стол, кровать и книги. Окно во двор. Четырнадцать метров. Неворожин, произносящий эти слова, представился ему: «У вас нет будущности. Очень плохо, что вы написали хорошую книгу».
Он встал с трудом и пошел умываться. Вода была теплая. Он вздохнул и остановился посредине кухни, закрыв глаза и опустив руки.
— Коля, завтракать! — крикнул из столовой отец.
В диагоналевых брюках, сшитых вскоре после русско-японской войны, в рубашке с «грудью», усатый и лысый, он сидел в столовой и читал вслух вечернюю «Красную».
— «Жив ли Амундсен? По мнению комиссара Пурвит…» Пурвит был флейтист, когда мы играли в Павловске, латыш… «есть все основания предполагать, что Амундсен…»