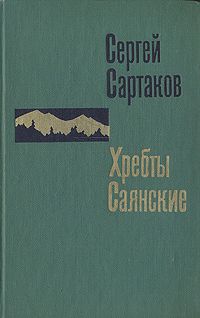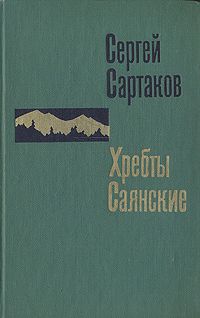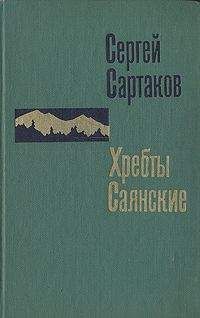Сергей Сартаков - Пробитое пулями знамя
Вы хорошее жалованье получаете, Павел Георгиевич?
И он не знал, как ему лучше на это ответить: в приподнятых и туманных словах или просто, как деревенской бабе, назвать сумму. С деревенской бабой ему бы и вообще не под стать разговаривать, но Настасья была дочкой Баранова и женой Сиренева. Сидела рядом с ним, из-под шелкового платья выставив ноги, обутые в сапоги — правда, шевровые, — а в ушах болтались тяжелые золотые серьги с брильянтами. Она стала ему показывать свой петербургский альбом, где была снята этакой приглаженной и припомаженной девицей, и тут же, кликнув стряпуху, чтобы та убрала со стола, мимоходом бросила ей такое словцо, каким сам Киреев называл только очень провинившихся жандармов.
Тогда он попробовал заговорить о пельменях, стал нахваливать кулинарные способности хозяйки. Настасья, с каким-то оттенком снисходительного сожаления к наивности Киреева, ответила:
Этим Варвара у меня занимается. — Прошла по комнате своей грузной походкой и от окна спросила: — Павел Георгиевич, а кто были те люди, которых на Алтае мужики подожгли и разграбили: землевладельцы-Дворяне или просто богатые крестьяне?
Киреев сказал, что это были совершенно такие же крестьяне, как и уважаемый хозяин дома, и что они тоже нанимали работников, имели много пашни, скота и даже, может быть, несколько меньше, чем Петр Иннокентьевич.
— …и потому, так сказать, будьте осторожны и вы. По широкому лицу Настасьи пробежала недоверчивая усмешка. Закачались брильянтовые серьги в ушах.
Не пугайте, Павел Георгиевич! Мы себя до этого не допустим!
В кухне с тонким звоном упала на пол и разбилась какая-то стеклянная посуда. Настасья сразу налилась гневным румянцем и, не извинившись перед гостем, тяжело зашагала туда. Киреев, довольный тем, что отпала мучительная необходимость разговаривать, когда страшно хотелось спать, пошатываясь, поднялся и поспешил выйти на воздух.
Над землей низко лежали неподвижные тучи, было застойно и глухо. Голова у Киреева сладко кружилась. За воротами громко разговаривали Баранов и Петруха.
С этой мелкотой я и один управлюсь, — с презрением бросал слова Петруха. — Сыромятники! На гужи только их товар. А я подошву, полувал, юфть, хром выпускать стану. Все в одни руки возьму. Я тебе говорю: не они мне помеха.
Ну, ты подумай сам, милочок, — с неудовольствием возражал Баранов, — как я теперь губернатора поверну против него, когда он сам вошел уже в приятели к губернатору? Я сказал — за тебя похлопочу, а Ивана брать на рогатину трудно мне. И что ты на него так взъелся? Когда на мукомольном деле вы оба столкнулись, это понятно. У тебя мельницы, и у него тоже. Прямая конкуренция. И что ты его мельницу по сути дела на замок замкнул — одобряю. Заставил его вальцы ставить…
— А я уже сам вальцовку завожу и из мукомолья Василева прежде всего вышибу, — уверенно, коротко бросил Петруха.
На поставках интендантству ты ему ногу подставил — это тоже понятно, — будто не слыша слов зятя, С прежним спокойствием продолжал Баранов. — Иван торгует салом и маслом, и у тебя такой же товар. Только он перекупщик, а у тебя свое. Отобрал ты у него выгодного покупателя — правильно! Честная конкуренция. Но втолкуй ты мне, милочок: что за неволя тебе из-за кожевенного завода с Василевым в драку вступать? У тебя же нет еще такого завода? Плюнь на него и строй себе лесопилки.
Когда я дрова везу, батя, а мне навстречу с сеном едут, я все одно говорю — отворачивай! Лесопилки лесопилками. А на кожах само по себе большие деньги можно пажить. Почему мне отступать, отдавать их Василеву?
Петр! Все, что есть на земле, один никак не захватишь.
Захочешь — захватишь. — Петруха помолчал и прибавил: — Достанешь мне миллион кредита, и тебя не забуду, батя.
Баранов заговорил с бархатными переливами в голосе:
У Ивана консервный завод. Ему прямой расчет и кожевенный рядом поставить. Это его и подталкивает. Что тут придумаешь?
Петруха как-то деланно засмеялся.
Остановить ему консервный завод, чтобы не подталкивало. А тем временем я свой кожевенный завод отгрохаю.
Чем ты у Ивана завод остановишь? — безнадежно сказал Баранов. — Пустой разговор.
Чем? — переспросил Петруха. — Есть чем. Сибирской язвой…
И за забором воцарилось глухое и долгое молчание. Киреев лениво улыбнулся»
«…Затевается… В горло друг другу… Черт с ними!.. А пельмени и облепиха хороши…»
Он спустился с крыльца и побрел на задний двор. Устроившись за углом сарая, Киреев стал глазами искать на небе звезды. Ему хотелось помечтать. Но небо оставалось пасмурным, и Киреев уставился на распахнутую дверь зимовья, находившегося в противоположном конце двора. Там слабо мерцал огонек керосиновой коптилки. Из зимовья доносился неясный мужской говорок. Киреев подумал:
«Работники. Молодцы, тоже не спят еще. Хотя, кажется, ночь уже на исходе».
Но тут вырвался чей-то отчетливый бас:
Хозяин! Ты что меня хозяином стращаешь? Да я его… — Киреев услышал такое окончание фразы, от которого сразу отрезвел. Вслед за этим на пороге зимовья появился Володька.
Михаила, — вздрагивающим фальцетом крикнул он, — я ведь тоже спал самую малость, мне гостей обратно в город везти.
И снова рыкнул бас Михаилы злые слова:
…гости! Я б их, сволочей этих, в канаву перевернул где-нибудь. Жрали-жрали всю ночь, а тут смежить глаза не успел — и опять запрягай. Лошади на переменку, а ты за плугом круглые сутки.
Да ты понимаешь — пашенное время уходит…
Молчи ты, холуй хозяйский, а не то…
И Кирееву сделалось вовсе не по себе. Он торопливо прокрался вдоль забора и стал поправлять мундир уже на крыльце. Не то чтобы он испугался — он просто утратил блаженное настроение, и съеденные пельмени теперь давили желудок тяжелым камнем.
Баранов с Петрухой уже сидели в горнице и пили медовую брагу с восковой пеной.
Присоединяйся, милочок, — пригласил Баранов, наливая ему огромную фаянсовую кружку. — Хорошо для закрепления результатов.
Киреев выпил и стал рассказывать про разговор работников. Петруха сверкнул белками глаз.
Знаю про Михаилу. И знаю, что с Еремеем он водится. А где их, одних смирных, ныне возьмешь? Да и черт ли в смирных? Мне сила в мужике нужна, а у Михаилы есть силенка. А что вертится он, бьется в оглоблях, так я люблю диких обламывать, — и ноздри у Петрухи раздулись.
Он ведь из старых работников у тебя, — заметил Баранов, — Стало быть, дичать теперь уже начал. Ты это учитываешь?
Я все учитываю, батя! — с наигранно-озорной веселостью сказал Петруха. — Не бойсь, обломаю…
Домой Киреев с Барановым уехали, когда была выпита вся брага и стал уже заниматься рассвет. Настасья наставила в тележку множество каких-то гостинцев для отца, и Кирееву некуда было вытянуть ноги. Впрочем, сунула она с чем-то туесок и для него. Прощались все с поцелуями. Петруха, словно куль с зерном, нагибал к себе тестя, обнимал его и все повторял:.
Так ты запомни наш разговор.
Настасья целовала Киреева мокрыми губами, давила ему шею своей жесткой ручищей и приглашала:
— Приезжайте, Павел Георгиевич, приезжайте еще. Володька едва удерживал на вожжах танцующих лошадей.
Потом он гнал их резвой рысью. Невдалеке от узко накатанной дорожки Михаила и другие Петрухины работники пахали в восемь плугов. Среди прошлогодней стерни чернела уже широкая полоса свежей пашни. По ней прыгали птицы, выбирая личинок и червей. Михаила шел за передним плугом. Завидя приблизившуюся тележку, он закричал что-то, защелкал кнутом. И хотя похоже было, что закричал он на лошадей, но на мгновение Киреев испытал в животе прежнее неприятное ощущение.
Весь обратный путь Баранов сладко дремал, невзирая на ужасную тряску. На попытки Киреева завязать разговор он сонно отзывался:
Ну тебя к черту! — И удовлетворенно добавлял: — Хороший зять мне достался. Из грязи — а выйдет в князи…
Киреев чувствовал себя неважно. Он несколько раз заставлял Володьку останавливать лошадей и уходил за обочину дороги.
В городе его ждала еще неприятность: за ночь на станции разбросали целую уйму прокламаций Красноярского комитета РСДРП под заголовком «Букет негодяев (или царские слуги)». В прокламации подробно описывались факты жульничества, незаконных поборов с парода, прямых хищений казенных денег. И назывались фамилии, главным образом полицейского начальства Иркутска, Томска, Красноярска, Иланской. Особенно досталось томскому полицмейстеру Аршаулову. Но несколькими строчками ниже взъяренный Киреев прочел и свою фамилию. Перечень его «деяний» был также приведен довольно длинный. Украденные у народа и у казны им, Киреевым, деньги назывались с большой точностью и с приведением всех обстоятельств. И самое главное: все это было сущей правдой…
Не сразу согнала с него бессильное бешенство и наспех набросанная записка Лакричника, которую в заклеенном конверте передал дежурный жандарм. Лакричник торжествующе сообщал Кирееву, что он выследил лицо, доставившее прокламации. Это лицо их вручило Мирвольскому. Где доктор хранит листовки, пока не установлено, так как передача состоялась в помещении больницы, Лакричник же дальнейшее свое внимание решил направить in medias res — в самую средину вещей, — узнать, откуда берутся листовки, ибо Мирвольский теперь никуда не уйдет. А приезжее лицо — «мавр сделал свое дело» — немедленно вернулось на вокзал и приобрело себе билет до Красноярска. В силу чего Лакричник счел нужным последовать в поезде за сим лицом.