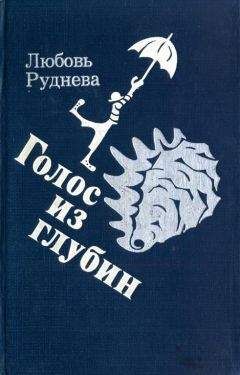Иван Щеголихин - Снега метельные
— Добрый вечер...
Незнакомая молодая женщина в байковом халате с кастрюлей в руках стояла возле цинковой ванны. А рядом с ней широкоплечий парень в ковбойке держал голого малыша.
— Извините,— пробормотал Николаев,—А вы... давно здесь живете?.
— Не-ет, третий день всего,— с легкой тревогой ответила женщина.— А что?
— Да ничего, соседями будем,— непринужденно сказал Николаев.
— Проходите, садитесь,— молодая женщина поставила кастрюлю прямо на пол, вытерла руки о халат, намереваясь, видимо, отложить купание и накрывать стол.
— Нет, нет, не беспокойтесь,— придержал ее Николаев.— Я зашел на минутку.
Молодая хозяйка все-таки решила объяснить, почему ей нежданно-негаданно повезло с жильем.
— Это нам Соня Соколова уступила свою квартиру. Захожу я как-то в магазин к ней с ребеночком на руках, а она меня спрашивает: «Сынок?», Да, говорю, сынок, за манкой пришли. «А где живешь?» В общежитии, говорю. «И муж есть?» Конечно, говорю, а как же иначе. «Хочешь квартиру получить?» Конечно, а кто не хочет. Я даже не поверила. Но она так шустро все оформила!—Женщина спохватилась, уточнила:—Но все честь честью, по закону.
— Что ж, это хорошо... Поздравляю с новосельем,— сказал Николаев.
— А Соня в Россию уехала. Дня три назад. Расстроенная была, печальная...— Молодая женщина изобразила на лице сочувствие. – И адреса не оставила. А мы ей уж так благодарны, так благодарны!
– Пожелаем ей успеха, она хороший человек, – сказал Николаев. – Поздравляю вас с новосельем и желаю всей семье счастья.
Он ушел, осуждая себя. Сомневался, колебался, все чего-то боялся. Как это все ничтожно по сравнению с ее прямотой и решительностью! Хотя с другой стороны, выдержка его помогла обоим.
Но что странно — теперь ему показалось, Соня Соколова увезла с собой какую-то важную частицу его душевной жизни.
Как там дела у Грачева? Надо бы позвонить.
«Разрывом устраняется обман»,— сказал ему как-то Леонид Петрович (а Николаев тогда грешным делом подумал, а каким разрывом устраняется обман Ткача?..)
Обман устраняется, допустим... А любовь?
32Грачеву не спалось. Он сидел в одиночестве на кухне в доме медиков и курил. Бросив окурок в таз возле плиты, он вставал, делал три шага к окну, затем поворачивал к двери, затем снова к окну и машинально брал следующую папиросу. Выбив мундштук о коробку, чиркал спичкой и после первой затяжки сознавал: кажется, опять закурил. И заглядывал в коробку, считал, сколько еще осталось, хватит ли до утра?
Трудно сказать, что его сейчас тревожило. В общем, конечно, больница, в общем и целом, а если сказать конкретней...
Нет, конкретней лучше не говорить.
Беспокоил, разумеется, послеоперационный больной. Не поднялась ли температура, как поведет себя шов... Он потерял много крови. Может быть, ввести физраствор подкожно?..
Грачев оделся, вышел на улицу. Перед самой больницей остановился: а вдруг Ирина в палате, возле Хлынова? Какова будет картина, брошенный муж явился подсматривать?..
Женское сердце жалостливо, Ирина может зайти в палату к послеоперационному, приободрить, утешить, ничего в том нет предосудительного. «Совсем нет, прямо-таки ничегошеньки нет предосудительного»,— подумал он язвительно.
Почему врач, настоящий врач, исцелитель, каковым он себя считает, не может попросить женщину утешить больного после операции?
Может, но почему-то не попросил.
Ах, эта женщина — его бывшая жена, и в нем заговорил инстинкт собственника. Вон каков ты, оказывается, настоящий врач, исцелитель. Да еще подглядывать пришел, сторожить!..
Грачев повернул обратно. Прошел шагов пятьдесят, остановился.
— Черт знает что такое!— проговорил он вслух.— Куда все подевалось — уверенность, спокойствие, хладнокровие? Для чего горожу-нагораживаю? Весь вечер раздуваю в себе идиотские подозрения. Зайду, узнаю, как его самочувствие, и пойду домой, спать.
Он всегда так делал, после любой операции. Нет причины нарушать традиции. Грачев пошел к больнице снова, издали нацелившись взглядом на окно изолятора. Оно светилось розовым светом и наполовину было задернуто марлевой занавеской. Он смотрел неотрывно, ждал, что там вот-вот промелькнет ее тень. Не дождался...
У входа он снова остановился в нерешительности. Что делать, если Хлынова не окажется в палате, если он... в изоляторе?
А ничего не делать. Попросить сестру, чтобы она нашла больного и уложила его в постель. И не просто сестру, а Женю, которая все знает.
Бог ты мой, а кто тут всего не знает!..
Никого он просить не будет, а зайдет сам в палату, как делал это всегда, и если убедится, что больного нет на месте, обратится за помощью к сестре. И даже не за помощью, а просто напомнит ей о больничном режиме.
Она приведет больного, водворит его, так сказать, на место, и Грачев спокойно — спокойненько!— скажет, что во избежание осложнений сейчас ему необходим максимальный покой, постельный строгий режим. А блага жизни он может наверстать потом. И отсутствие руки в данном случае не помешает.
«Все-таки ты сволочь, Грачев»,— сказал он себе.
В ординаторской он снял пальто, повесил его на вешалку, взял халат и решительными рывками натянул его.
Тишина в больнице, покой...
Он вошел в темную палату, оставив дверь приоткрытой, чтобы проходил сюда свет из коридора. Хлынов спал, дышал тяжело, хрипло, как сильно уставший за день человек. Толсто забинтованная культя покоилась на белой широкой лангете.
Грачев тихо вышел, тихо прикрыл за собой дверь. Постоял в коридоре, прислушался неизвестно к чему, может быть, к самому себе. В дальнем углу едва заметно голубела дверь изолятора...
В процедурной, склонившись на столик, дремала Женя, похожая на белую птицу, спрятавшую голову под крыло. На звук двери она подняла сонное личико, с усилием открыла глаза.
— Ах, это вы! А я тут сплю...
Нечего ей пугаться и оправдываться не надо, измоталась за день, устала.
— Все в порядке, Женя? Как послеоперационный?
— Спит. Пусть поспит, двое суток подряд мучился,— она пожалела Хлынова, как всякого другого больного, не подозревая о состоянии Грачева.— А вы отдыхайте, Леонид Петрович. Я на страже.— Женя сонно улыбнулась.— Я всегда чувствую, когда все в порядке, а когда что-нибудь случится.
«Милое дитя»,— подумал Грачев и попросил:
— Пошлете за мной, Женя, если что... Кровотечение вдруг и так далее.
Она пошлет за ним, все это само собой разумелось, можно было и не говорить, но он сказал эту пустую просьбу и тем самым отрезал себе путь в больницу, чувствуя в то же время, что не сразу отсюда уйдет, а если и уйдет все-таки, то вернется. В эту же ночь...
И все-таки он погнал себя домой и не оглядывался больше на окно изолятора.
Снова сидел на кухне, курил, не в силах избавиться от тревожного ожидания неизвестно чего.
Если бы он не застал Хлынова в палате, или застал бы его не одного, возможно, стало бы спокойнее.
Тогда бы не пришлось Грачеву отвечать самому себе на вопросы. А их немало. Почему она поселилась в больнице, а не ушла к Хлынову сразу? Почему так жестоко отказалась дать кровь сначала? Если, допустим, она знала, что крови других доноров вполне достаточно для операции, то к чему было заводить этот скользкий, мягко говоря, разговор? Возможно, не хотела тревожить хирурга, зная, что его волнение может отрицательно сказаться на операции.
«Но за кого же она меня принимает, в таком случае? И не слишком ли она самонадеянна, если считает, что у меня от ее того или иного поступка задрожат руки, и я не смогу перевязать сосуд?..»
Угасало пламя в печи, вот оно, собрав последние силы, накалилось еще, покраснело и стало долизывать сереющие шлаковые угли. Слышней стал прерывистый вой в трубе, ощутимее одиночество.
Сашка спит, Женя на дежурстве, в доме пусто...
В сущности, она сегодня отреклась от Хлынова. Во всяком случае, попыталась. Подлая попытка, если посмотреть со стороны. Но она бросила Грачеву свое отречение, как бросают шканцы на пристани — придержи меня, удержи, иначе унесет.
Может быть, еще не все забыто, не все поругано и растоптано и именно сегодня, сейчас наступил, как говорят, решающий момент?
Грачев вылил остатки холодного чая в стакан, приподнял его, пригляделся: в жидком настое мелкой мошкой забегали чаинки, слепо преследуя друг друга, сталкиваясь и снова расходясь и сталкиваясь, пока по одной медленно не опустились на дно...
Так тоскливо может выть труба только в его доме, больше нигде во вселенной. Он постоял в бездумье, в трансе, прислушиваясь к этому вою, наполняясь им до краев, затем накинул полушубок и вышел на улицу.
Было четыре часа, уже утро нового дня. Темные дома посветлели, поседели от инея и казались вымершими. На столбе возле райкома светилась лампочка. Она раскачивалась, и метель курилась в ее свете и тоже раскачивалась белым дымом.