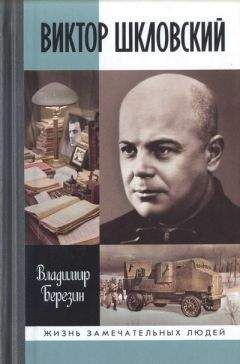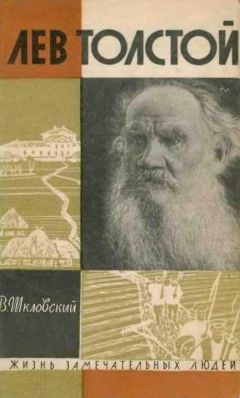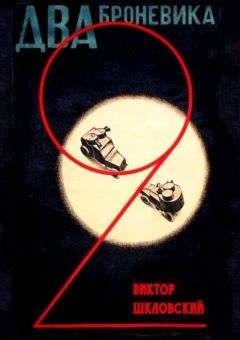Виктор Шкловский - Сентиментальное путешествие
Обычная мотивировка – рассказ.
То есть с середины романа действие возвращается назад, путем чтения найденной рукописи, сном или воспоминаниями героя (Чичиков, Лаврецкий).
Цель этого приема – торможение.
Мотивировка, как я уже говорил, рассказ, рукопись, воспоминание, ошибка переплетчика (Иммерман), забывчивость автора (Стерн, Пушкин), вмешательство кошки, спутавшей листья (Гофман).
Вопроса о беспредметном искусстве не существует: есть вопрос о мотивированном и о немотивированном искусстве. Искусство развивается разумом своей техники. Техника романа создала «тип». Гамлет создан техникой сцены.
Я ненавижу Иванова-Разумника, Горнфельда, Василевских всех сортов, убийцу русской литературы (неудачного) Белинского.
Я ненавижу всю газетную мелочь критиков современности. Если бы у меня была лошадь, я ездил бы на ней и ею топтал бы их. Теперь стопчу их ножками своего письменного стола.
Ненавижу людей, обламывающих острие меча. Они губят созданное художником.
Подумайте – Кони утверждает, что значение Пушкина в том, что он защищал суд присяжных!
Масло же человеку совершенно необходимо. Моя маленькая племянница Марина, когда болела, все просила масла, хоть на язычок.
И я хотел масла и сахара все время.
Если бы я был поэт, я написал бы поэму о масле, положив ее на цимбалы.
Сколько жадности к жиру в Библии и у Гомера!
Петроградские писатели и ученые поняли теперь эту жадность.
Читал лекции в Институте истории искусств.
Ученики работали очень хорошо. Холодно. У института, кажется, есть дрова, но нет денег их распилить. Стынешь. Стынут портьеры и каменные стены пышного зубовского дома. В канцелярии пухнут от мороза и голода машинистки.
Пар над нами.
Разбираем какие-то романы. Говоришь внимательно, и все слушают.
И слушает нас также мороз и Северный полярный круг. Эта русская великая культура – не умирает и не сдается.
Передо мною сидит ученик, из рабочих. Литограф.
С каждым днем он становится прозрачней. На днях он читал доклад о Филдинге. У него просвечивали уши, и не розовым, а белым. Шел с доклада, упал на улице. Подобрали, привезли в больницу. Голод. Я пошел к Кристи.
Он ничего не мог дать.
Достали хлеба товарищи, ученики. Ходили к нему.
А он вылежал в больнице, выполз из нее. Продал книги, уплатил долги и опять ходит в институт.
А до института катает вагонетки с углем и имеет за это два фунта хлеба и пять фунтов угля в день. Глаза у него, как подведенные. И кругом почти у всех так.
Вы не думайте, что вам не нужны теоретики искусства.
Человек живет не тем, что он ест, а тем, что переваривает. Искусство нужно, как фермент.
Дома я топил печку бумагой.
Представьте себе странный город.
Дров не выдают. То есть выдают где-то, но очередь в тысячу человек ждет и не может дождаться. Специально заведена волокита, чтобы человек, обессиленный, ушел. Все равно не хватит.
И выдают-то одну вязанку.
Столы, стулья, карнизы, ящики для бабочек уже стоплены.
Мой товарищ топил библиотекой. Но это страшная работа. Нужно разрывать книги на страницы и топить комочками.
Он чуть не погиб той зимой, но доктор, который пришел к нему в день, когда вся семья была больна, велел им всем поселиться в крохотной комнате.
Они надышали там и выжили. В этой комнатке Борис Эйхенбаум написал книгу «Молодой Толстой».
Я плавал среди этого морозного моря, как спасательный круг.
Помогало отсутствие привычки к культуре – мне не тяжело быть эскимосом.
Я приходил к товарищам и накачивал в них бодрости; думать же я могу при любых условиях.
Вернемся к топке печей.
Жил я в спальне Елисеева. В углу стояла большая печка, расписанная глухарями.
В доме был прежде Центральный банк. Выпросишь ключ от банка, войдешь в него, и начинает кружиться голова.
Комнаты, комнаты, комнаты на Невский и комнаты на Морскую, комнаты на Мойку. Отворенные несгораемые шкафы, весь пол усеян бумагами, квитанционными книжками, папками. Топил печку почти год папкой.
У Дома искусств, правда, были дрова, но такие сырые, что без папки их нельзя было растопить.
Вот и ходишь по пустым комнатам, роешься в бумагах.
Почему-то кружится голова. Почему-то тошнит.
А вечером сидишь спиной к печке за маленьким круглым елисеевским мозаичным столиком и поешь.
Я люблю петь, когда работаю. Поэт Осип Мандельштам прозвал меня за это «веселым сапожником».
Уже кругом образовался быт.
Выдали нам в Доме ученых по зеленым карточкам каждому один мешок и одну деревянную чашку, завели мы саночки.
Вообще приспособили жизнь.
Большинство работало сразу в нескольких местах, получало везде пайки. Нас попрекали этими пайками. Сам я сразу никогда два пайка не получал, но – нехорошо попрекать людей хлебом. У людей есть дети, и они тоже хотят есть.
У некоторых же, кроме того, существовал психический голод и культ еды.
Зашел раз к одному довольно известному писателю, его не было дома. Заговорил с его седоволосой и чернобровой женой. Она мне сказала: «В этот месяц мы съели двадцать пять фунтов свинины».
Она очень уважала себя за эту свинину, за то, что она у них есть. Презирала тех, кто свинины не ел.
С этой свининой в то время съедали много людей.
Я жил сравнительно легко, так как часть дров получал от Дома искусств.
Свинины не ел и о ней не думал.
В нижних залах дома шли концерты.
В комнате с амурами на потолке жил Аким Волынский.
Он сидел в пальто и в шапке и читал Отцов Церкви по-гречески.
Вечером пил чай на кухне.
Я занимался вселением людей в дом. У нас было два течения: аристократическое, которое стремилось сжать количество «обдисков» – обитателей Дома искусств, – и я, который лазил по дому, находил квартиры и вселял в них новых людей.
Появлялись новые люди.
Ходасевич Владислав в меховой потертой шубе на плечах, с перевязанной шеей.
У него шляхетский герб, общий с гербом Мицкевича, и лицо обтянуто кожей и муравьиный спирт вместо крови.
Жил он в номере 30; из окна виден Невский вдоль. Комната почти круглая, а сам он шаманит:
Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей,
Смотрю в штукатурное небо,
На солнце в шестнадцать свечей.
Кругом – освещенные тоже —
И стулья, и стол, и кровать.
Сижу и в смущенье не знаю,
Куда бы мне руки девать.
Морозные белые пальмы
На стеклах беззвучно цветут.
Часы с металлическим шумом
В жилетном кармане идут.
Когда он пишет, его носит сухим и горьким смерчем.
В крови его микробы жить не могут. Дохнут.
По дому, закинув голову, ходил Осип Мандельштам. Он пишет стихи на людях. Читает строку за строкой днями. Стихи рождаются тяжелыми. Каждая строка отдельно. И кажется все это почти шуткой, так нагружено все собственными именами и славянизмами. Так, как будто писал Козьма Прутков. Эти стихи написаны на границе смешного.
Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.
Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услыхать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.
Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.
Осип Мандельштам пасся, как овца, по дому, скитался по комнатам, как Гомер.
Человек он в разговоре чрезвычайно умный. Покойный Хлебников назвал его «Мраморная муха». Ахматова говорит про него, что он величайший поэт.
Мандельштам истерически любил сладкое. Живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде, он умудрялся оставаться избалованным.
Его какая-то женская распущенность и птичье легкомыслие были не лишены системы. У него настоящая повадка художника, а художник и лжет для того, чтобы быть свободным в единственном своем деле, он, как обезьяна, которая, по словам индусов, не разговаривает, чтобы ее не заставили работать.
Внизу ходил, не сгибаясь в пояснице, Николай Степанович Гумилев. У этого человека была воля, он гипнотизировал себя. Вокруг него водилась молодежь. Я не люблю его школу, но знаю, что он умел по-своему растить людей. Он запрещал своим ученикам писать про весну, говоря, что нет такого времени года. Вы представляете, какую гору слизи несет в себе массовое стихотворство. Гумилев организовывал стихотворцев. Он делал из плохих поэтов неплохих. У него был пафос мастерства и уверенность в себе мастера. Чужие стихи он понимал хорошо, даже если они далеко выходили из его орбиты.
Для меня он человек чужой, и мне о нем писать трудно. Убивать его было не нужно. Никому. Помню, как он рассказывал мне про пролетарских поэтов, в студии которых читал: «Я уважаю их, они пишут стихи, едят картофель и берут соль за столом, стесняясь, как мы сахар».
Умер Гумилев спокойно.
У меня сидел в тюрьме смертником один товарищ. Мы переписывались. Это было около трех или четырех лет тому назад. Письма выносил конвойный в кобуре. Друг писал мне: