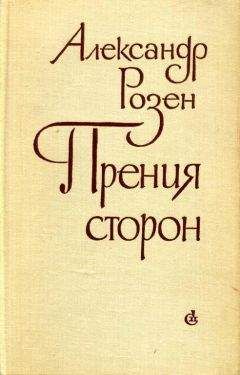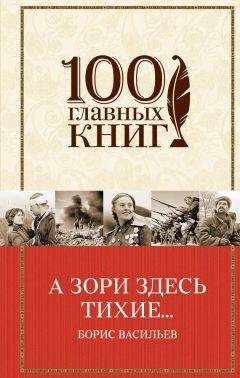Александр Розен - Почти вся жизнь
Но сейчас Ларин чувствовал необычную скованность. Быть может, причиной ее был только что пережитый страх за Ольгу и смутное, но тяжелое ощущение собственной вины.
— Попал я в окружение, — сказал Ларин угрюмо. — Ну, а поддержать нас не смогли… Немцы, конечно, навалились…
— Ах, вот что! — воскликнул Грачев. — Знаю, Знаю… Осталось вас семеро, отбивались. Знаю.
— Четырнадцать человек, Илья Александрович. Откуда вы знаете про нас?
— В Военном совете слышал. Говорили… Ну, словом, говорил такой человек, что я не мог усомниться. Слышал: наша дивизия прорвала немецкий фронт, а потом сдерживала натиск пяти отборных немецких дивизий…
— Пять дивизий? — спросил Ларин.
— Вот здесь, здесь это было, — сказал Грачев, подходя к карте.
Лигово, Пушкин, Колпино, Мга… Линия фронта обведена красным карандашом.
Странной казалась Ларину эта карта. Он привык к миллиметровке. Вынул ее из планшета, развернул.
— Вот, Илья Александрович, здесь примерно наша траншея. Я отчеркнул…
Но Грачев не стал разглядывать ларинскую карту.
— Вот здесь, — показал он на треугольник железных дорог. — Здесь немцы сосредоточили войска. Отсюда должны были прорвать наш фронт. Но этого не случилось. Провалились немецкие планы, — сказал Грачев и постучал пальцем по карте.
— Илья Александрович, — сказал Ларин, восторженно глядя на Грачева, — я так обо всем Ольге и расскажу…
— Ольге? — переспросил Грачев. — Ну вот что, друже, мне пора начинать рабочий день. Этот заводик — дело довольно хлопотливое. Зайдешь еще ко мне? Я письмо к Бате приготовлю.
— К четырем обещал Оле быть возле проходной.
— Держи пропуск. Зайдешь ко мне, а потом в цех за женой. Так?
Было тихое утро. На небе ни облачка. Улица в этот час пустынна. Быть может, именно поэтому все здания казались Ларину огромными и величественными. Ларин пешком отправился к Елизавете Ивановне — жене Смоляра. Она жила по другую сторону Невы, на набережной.
Жену командира полка Ларин знал давно. Еще до войны в лагерь она приезжала к Смоляру. У нее, как и у Смоляра, вились волосы, и на полном лице выделялись очень живые и выразительные глаза. И еще чем-то неуловимым она походила на мужа. И Ларин, к великому удовольствию однополчан, прозвал супругов «близнецами».
Елизавета Ивановна была общительна, принимала участие в полковой самодеятельности, и пела, и плясала, а на традиционных полковых праздниках показывала таланты незаурядной хозяйки. Жила она интересами мужа. Детей у них не было.
Началась война. Елизавета Ивановна отказалась эвакуироваться. Смоляр ее не уговаривал. Известно было, что командир дивизии по этому поводу беседовал со Смоляром, но Батя, тряхнув кудрями, заявил: «Нет, товарищ генерал, не справится Лиза без меня. Десять лет мы женаты, и куда конь с копытом, туда, извините, и рак с клешней».
Сейчас Елизавета Ивановна работала в госпитале медсестрой, ко по-прежнему навещала мужа в Кириках и хозяйничала на праздниках. И каждый, кто приезжал из полка в Ленинград, обязательно привозил ей письмо от Бати.
Елизавета Ивановна обрадовалась Ларину.
— Павлик! — И поспешно спросила: — Привезли письмо?
Большая комната, очень светлая. В окнах выбиты стекла, но фанера еще не вставлена, и свет проникает свободно.
Елизавета Ивановна читала письмо, а Ларин смотрел на нее и видел, что она изменилась за это время, сильно похудела. И эта не свойственная ей худоба изменила не только ее фигуру, но и выражение ее лица. Она вдруг заплакала горько, по-детски беспомощно. Маленькая сумочка висела на ее руке. Елизавета Ивановна спрятала туда письмо.
— Ах, Павлик, — сказала Елизавета Ивановна, вытирая слезы. — Жив он, жив. Главное — он жив. Знаете, Павлик, если с ним что-нибудь случится, я этого не переживу.
Ларин сказал:
— Я, Елизавета Ивановна, не понимаю… Так себя расстраивать! Как это можно…
Она больше не плакала. Стояла посредине комнаты, маленькая, похудевшая.
— Я знала, что он воюет, — говорила Елизавета Ивановна. — Столько раненых, а к нам ведь все тяжелых привозят, которым в медсанбате помочь нельзя: Все койки заняты. В коридорах лежат. А я хожу и думаю… Думаю, что, если вот так Батю моего привезут.
Ларин не решался ее прервать.
— А тут еще обстрелы. Павлик, ведь вы не знаете, таких еще за всю блокаду не было. И к нам в госпиталь попало. Главного хирурга убило. Не знали его?
— Знал, — сказал Ларин тихо. — Дмитрия Степановича знал. Он меня оперировал в сорок первом.
— Раненых много погибло. Ужас! Хотели в другой госпиталь отправить, там тоже все переполнено. Вы сядьте, Павлик. — Ларин сел. — Когда же все это кончится?
— Скоро кончится, Елизавета Ивановна, — сказал Ларин, ненавидя себя за эти невыразительные, ничего не говорящие слова.
Елизавета Ивановна вздохнула.
— Завтракали, Павлик? Сейчас я вам стопочку дам.
— Ничего мне не надо, Елизавета Ивановна. Прошу вас, ничего не надо.
— Ну вот еще! — Она улыбнулась. — В полк приедете, Бате скажете: еще есть у меня чем угостить.
Елизавета Ивановна вынула из буфета стеклянный штоф с петухом на дне, налила водку в большую рюмку и поднесла Ларину.
— И закусить есть, — сказала она, отрезав кусочек какой-то копченой рыбки. — Ну, за Батино здоровье.
— За здоровье командира полка, — сказал Ларин и выпил.
— Теперь, Павлик, рассказывайте о себе.
— Мы, Елизавета Ивановна, воевали неплохо, — бодро сказал Ларин. — Сами знаете, силы неравные, но немцев ни на вершок к Ленинграду не подпустили.
— Да, да, — кивала головой Елизавета Ивановна. — Знаю, знаю, значит, отличился наш полк?
— Отличился, Елизавета Ивановна.
— Выпейте, Павлик, еще рюмочку.
— Спасибо. Выпью. Ваше здоровье!
— Вам когда уезжать?
— До трех часов в вашем распоряжении. Приказывайте!
— Может, в кино пойдем? — предложила Елизавета Ивановна.
Ларин обрадовался.
— В кино? С большим удовольствием!
Хорошо в прохладном, почти пустом кинозале. С экрана девушка поет песню, юноша на скрипке аккомпанирует ей. Они будут счастливы, но сколько препятствий надо преодолеть! Им суждено разлучиться, тосковать друг без друга, ревновать. Но любовь сильнее…
— Они встретятся. Вот увидите, Павлик, они встретятся, — шепчет Елизавета Ивановна.
Та же песня, которую пела девушка в начале фильма.
Неожиданно Елизавета Ивановна спрашивает:
— Слышите?
Толчок.
Песня. Скрипка подхватывает ее.
Толчок. Как будто кто-то постучал в закрытые двери кинозала.
— Слышите?
Снова толчок.
— Обстрел! Павлик, Павлик, идемте.
Дали свет в зале. Затих движок.
— Граждане, — говорит голос в репродукторе. — Проходите в бомбоубежище.
Они в коридоре.
— Граждане, бомбоубежище налево.
— Павлик, Павлик! Лучше на воздух.
Хрустит стекло в вестибюле. Яркое солнце бьет им в лицо.
— Как парит! — говорит Елизавета Ивановна. — У меня не выдерживает сердце.
На углу Садовой и Невского Ларин и Елизавета Ивановна простились.
— Надо торопиться: у меня с пяти дежурство в госпитале. Вот вам записочка для Бати. Всегда с собой ношу. А вдруг кого-нибудь из наших на улице встречу. До свидания, Павлик! Вы на трамвае?
Но Ларин не стал ждать трамвая. Он остановил военную полуторку и умолил водителя подвезти его на Васильевский остров. С того момента, как начался артобстрел, и потом, когда они выбрались из кино и прощались с Елизаветой Ивановной, он со страхом думал об Ольге. Он хотел только одного: как можно скорее, немедля, сейчас знать, что она жива и невредима.
— Ну как у вас, тихо? — спросил Ларин старуху вахтершу, и, когда та кивнула головой, он почувствовал, как тяжелая тревога отошла от него.
— На вот, передай Смоляру. — Грачев ждал его. Ларин взял конверт со штампом завода. — И скажи, что Грачев всегда о нем помнит.
— Спасибо, Илья Александрович. Вы и про то, о чем утром говорили, написали командиру полка?
Грачев улыбнулся, кивнул головой.
— Пойдем на завод, покажу тебе новый цех, новую сборку, где твоя Ольга работает.
В ста метрах от заводоуправления двухэтажное здание. Кирпич не облицован. Цех еще не покрыт, работают кровельщики.
— Вот о чем расскажи в полку, — говорил Грачев, — мы ведь здесь не запонки делаем. Для вас работаем. И дом этот (Ларин заметил, что он подчеркнул слово «дом») срубили наши же рабочие. В третьем пролете жену видишь? Она нас заметила, только виду не подает. Первая строительница — твоя жена. Мы, Ларин, еще один новый дом срубим.