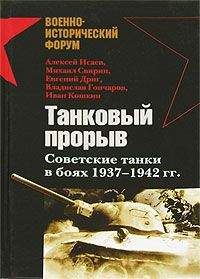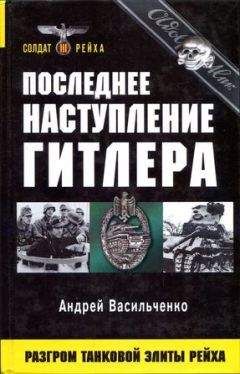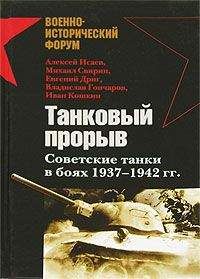Илья Дворкин - Взрыв
— Да раз десять, наверное.
— Вот-вот. Видишь, на чем спекулирует, — Е. Е. усмехнулся, — придется вас, восточные паши, поставить к стенке, да тут же и шлепнуть за такие кошмарные злодеяния.
— Но кто? Кто же это мог? Просто в голове не укладывается. — Санька потер пальцами виски, тоскливо поглядел на Е. Е. — Это что же получается, Евгений Евстигнеевич? Это выходит, я теперь всех должен в подлости подозревать? Как же теперь дальше буду с ними работать? Нет, я так не смогу! Не смогу глядеть на каждого и об этой... об этой дряни вспоминать, лучше уйду из управления.
— Замолчи! — Е. Е. трахнул ладонью по столу, лицо его покрылось красными пятнами. — Мальчишка! Встретил впервые подлость и рассопливился. Всех он будет подозревать! Да какое ты имеешь право думать гадости о людях, о товарищах своих, с которыми бок о бок живешь!
— Но кто-то ведь написал это! Он тоже бок о бок!
— Он один, понял! Один мерзавец! И его надо найти! — Е. Е. кричал на весь кабинет. — Ишь надумал — уйду из управления! Тьфу! Слушать тошно. Ведь этот анонимщик того и добивается! Он же руки свои нечистые потирать станет, он себя силой почувствует. Понял?! И дальше гадить будет исподтишка! И ты мне истерик не закатывай, не кисейная барышня. Вот тебе мое слово, приказ, если хочешь, приказ старшего товарища — найди негодяя. Найди, хоть тресни.
— Да как же я его найду-то? Может, спросить? Так, мол, и так, скажите, пожалуйста, не вы ли будете случайно негодяй и провокатор? Как же, держи карман, признается такой! Что я смогу один?!
— Ты не один! Нет, братец! Это он один, а не ты! — Е. Е. уже не кричал, он взял себя в руки, хоть Санька и видел, что сдерживается он с трудом. — Вот и надо, чтоб искал его не ты один, а вся бригада. За это судят нынче — за клевету. Вот и надо наказать его так, чтоб сам зарекся и детям заказал. Видно, не обжигался еще. Трусит, видно, но гадит. И уж, наверное, не одна покалеченная судьба на совести у мерзавца. Е. Е. задумался, видно, вспомнил что-то свое, не больно что-то радостное, потому что помрачнел еще больше. Но вот он встряхнулся, вскинул голову, протянул Саньке анонимку:
— Вот что, Балашов, бери-ка это произведение эпистолярного жанра и кати к себе на участок, собирай народ. И прочти это письмецо вслух. Спокойно так прочти, внятно. Да погляди внимательно, как оно кому понравится. Я бы и сам с тобой пошел, да боюсь, мешать стану. Думаю, лучше тебе самому, вы все люди свои, стесняться не будете.
Санька уже открыл дверь, когда Е. Е. будто вскользь спросил:
— Новенькие в бригаде есть?
— Есть. Трое. Месяца два как пришли.
— Ну и как люди?
— Да вроде хорошие. Работают нормально. А там, кто их ведает... Я уж теперь и не знаю...
— А ну-ка погоди. Вернись на минутку. Вот что, Балашов, слушай меня внимательно и заруби себе на носу: не смей думать о людях плохо, считай каждого, с кем говоришь, человеком честным. Пока не убедишься в обратном, не убедишься абсолютно точно. А станешь всех подозревать — гляди, худо тебе будет жить. Запомни это. А теперь иди.
В прорабку Санька пришел к концу обеденного перерыва. Все было как всегда — кто загорал, сидя на штабеле досок, кто читал, кто грохал азартно костяшками домино. Филимонов возился с чертежами. Травкин аккуратно обстругивал какой-то замысловато закрученный корень, отдаленно напоминающий голову лося с прижатыми к спине лопатистыми рогами.
Балашова встретил веселый голос Зинки:
— Ну, Константиныч, и учудил наш Божий! Прям-таки всю бригаду ошарашил!
— Да бросьте вы, Зина! Что за манера такая слона из мухи делать! — Травкин явно смущался.
— Ни фига́ себе — из мухи! — В голосе Зинки слышались уважительно-удивленные нотки. — Понимаешь, Константиныч, приволок он свой сидор, — Зинка показала на стоящий в углу прорабки старенький, потрепанный портфель Травкина, в котором тот обычно приносил завтрак, — я гляжу, пузатый нынче сидор-то и тяжеленный — страсть! Ага, думаю, попался тихоня! Никак, думаю, там бутылки, небось киряет втихомолку наш праведник, — Зинка подскочила к портфелю, — надоть, думаю, проверить. Хвать! А там — ты только погляди! Нет, ты погляди, какой у нас Божий! Во́ темная личность, прям-таки загадка природы. Ты, Божий, часом не шпиён? Ты погляди, Константиныч, что он читает, ну прям что твой профессор. Зинка раскрыла портфель и вынула оттуда к изумлению Саньки изящно изданную в карманном формате книжку.
— Ты гляди, прям язык сломаешь, и не выговорить. Гляди: тхе веат генератион... а дальше я не умею. А там и других таких полно.
Санька осторожно взял книжку и прочел: «The Beat generation and Angry Young Men».
Английский язык Санька учил в школе и в институте, но, к сожалению, больших успехов не достиг, как, впрочем, и большинство его сверстников.
— Ну, Angry Young Men — это понятно — сердитые молодые люди, а The Beat generation что означает? — обратился он к Травкину.
— Битников они так называют. Это сборник рассказов современных молодых писателей. Может, слыхали — Джек Керуак, Кингсли Эмис? Впрочем, молодыми они лет десять назад были.
— А, это тот Эмис, который «Счастливчика Джима» написал? А сейчас он про Бонда пишет.
— Правильно. Он нынче наследник покойного Флеминга, пишет про агента 007, — отозвался Травкин.
— Значит, вы, Алексей Дмитрич, свободно по-английски читаете? — В голосе Саньки было такое изумление, что Травкин рассмеялся:
— Что ж здесь удивительного, Александр Константиныч! Пробую помаленьку. Подзабыл многое. А изумляться этому... — Травкин пожал плечами, — я ведь старый уже, и жизнь у меня была всякая, было время и английскому научиться. Тут ведь только желание нужно, всякий может. И вы, Зина, кстати, тоже.
— Я?! — Зинка захохотала. — Да легче медведя на пианине играть научить. Скажете же тоже! Добрый ты, Лексей Дмитрич, Божий ты наш Одуванчик. Люблю я тебя.
— Ну ладно, ладно. Нечего над стариком смеяться. — Травкин вконец засмущался.
— Ничего себе старичок! Небось с любой молодухой справишься еще. — Зинка увидела, что Травкин залился румянцем, замахал на нее сконфуженно рукой, и добавила: — А что, Лексей Дмитрич, иди ко мне в полюбовники. Я еще баба в соку, ей-богу!
— Ну, перестаньте вы, право! Что за шутки такие глупые. — Травкин вскочил и пошел к двери, но Зинка перехватила его по дороге:
— Да я же шучу, Лексей Дмитрич, не обижайся. Я ж по-доброму.
Зинка взяла Травкина за плечо, повернула к себе лицом, посмотрела в глаза. И было во взгляде ее что-то даже материнское, доброе.
— Горемыка ты, горемыка! Вон уж седой весь, а все как ребенок. Ей-богу, первый раз такого чудика встречаю. Не обижайся, Дмитрич. Я ж тебя и взаправду люблю.
Санька глядел на них, на Травкина, на Зинку, на Пашу с Мишкой — друзей-неразлучников, на Петьку Моховикова — горного орла, нежного папашу, на всех остальных — товарищей своих, славных, добрых людей, с которыми сжился, уважал которых, и так ему стало тошно и стыдно вынимать подлую эту анонимку, будто сам он ее написал. Вот они смеются, подтрунивают друг над другом беззлобно и ласково даже, и души их покойны.
А через несколько минут прольется здесь грязь, грязные слова, и люди станут оглядывать друг друга с подозрением, и уйдет душевный их покой, и кто знает, придет ли снова.
«Может быть, плюнуть на это дело? Может быть, вообще ничего не говорить? Кому будет легче и лучше, если всем станет скверно? Знаю я один, одному мне в душу наплевали. Зачем же всем-то? Но как же я с ними дальше жить буду? Ведь сидит же эта гадина, сидит среди всех и тоже улыбается и шутит. А потом придет в свою нору и снова нагадит. Ведь у него же пусто совсем в груди, ведь он, гад, все может. Может мужу жену очернить, другу — друга, влюбленному — невесту. Ведь он глядит, наверное, сейчас на меня и ухмыляется про себя. Если я не прочту, он же не поймет, сволочь, почему я не прочел, он же наверняка решит — испугался, и возликует своей подлой душонкой. Нет уж! Прочту. Пусть хоть послушает, что про него люди думают».
И Санька встал. Рабочие поняли его по-своему и тоже поднялись, — обеденный перерыв уже кончился.
— Не уходите, товарищи. Сядьте, пожалуйста. У меня к вам есть важное дело, — сказал Санька.
Филимонов поглядел на него с удивлением, сел.
Бригада заинтересовалась, тоже стала рассаживаться. Сделалось тихо.
— Мне трудно говорить. Я вот сейчас думал: может, промолчать? Может, плюнуть на это дело? Но я решил, что молчать просто не имею права, — Санька оглядел настороженные, недоумевающие лица, — короче, такое дело: среди нас сидит подлец. Подлец законченный, не случайный, можно сказать, идейный подлец. Эта гадина сидит сейчас среди нас, слушает меня и, наверное, усмехается, думает: ага, задело! — И вдруг Санька увидел, как на одном лице действительно мелькнула ухмылка. Чуть заметная, мгновенная, и тут же лицо вновь стало внимательное и даже возмущенное.
Это был один из трех недавно принятых в бригаду рабочих — мужчина лет около сорока, статный, красивый, с твердо очерченным лицом. Такие лица рисуют на плакатах. Фамилия его была Федин. Санька вглядывался в него, и удивленные молчанием рабочие стали оглядываться, стараясь разглядеть, куда это смотрит прораб.