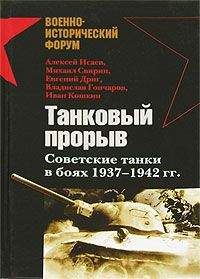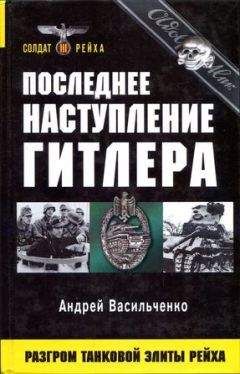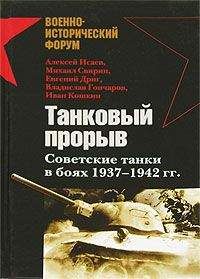Илья Дворкин - Взрыв
Но не так-то просто было отделаться от Потапихи. Она твердо веровала во всемогущество парторга. Многие бабы, помиренные со своими мужьями, матери, детей которых устроил в садик Е. Е., молодые ребята, которым помог он устроиться на курсы сварщиков или, скажем, бульдозеристов, разнесли эту добрую славу по управлению.
Пристала Потапиха с ножом к горлу. Хоть бери и делай сам гипнотические пассы. Короче, не смог отказать Е. Е., устроил Потапова в больницу.
Правда, гипнозом его не лечили, а лечили страшным для пьяниц лекарством — антабусом.
Колька вышел из больницы каким-то странно тихим, задумчивым. Когда, забывшись, по привычке хлебнул в обеденный перерыв пива, то вдруг к удивлению дружков своих скорчился и с величайшим отвращением выплюнул его, и даже дрожь по Колькиной спине прошла. Это было настолько невероятно, что дружки оторопели, вытаращились изумленно, и пиво перестало казаться им вкусным. Это было наглядно и убедительно, как всякое приличное чудо.
Колька долго отмалчивался, приходил в себя, не рассказывал, что же с ним такое проделали в этой невероятной больнице.
После рассказал.
Лечили, говорит, лечили, после приносят маленькую: пей, если хочешь, только, говорят, в зеркало смотри на себя.
Стал, говорит, пить — противно жутко, вот-вот вывернет, но терплю. Одну рюмочку выпил, другую — глядь в зеркало, а у меня, говорит, ухи синие, как чернила. Тут-то, говорит, я ее и проклял, окаянную.
С тех пор Потапов, известный всему управлению выпивоха, пить бросил. И эта, в общем-то, не больно серьезная история подняла авторитет Е. Е. на небывалую высоту.
Он оставался таким же, как и прежде, — тихим, смущающимся человеком.
И единственно когда он менялся, становился непреклонен и грозен, это когда разговаривал с алиментщиками. Вот тут пощады от Е. Е. не было. Куда и девались его тихость и доброта. Такой непутевый папаша вылетал из его кабинета как ошпаренный, а вслед ему гремел на весь коридор голос Е. Е.
Сам одинокий человек, парторг трогательно любил детей. И все эти его черты, вместе взятые, были Саньке чрезвычайно милы и симпатичны.
Нет, хороший человек был Е. Е., какой-то даже домашний, и поговорить любящий, и анекдот рассказать. И пивка под тараночку у ларька, на свежем воздухе, не прочь был пропустить Е. Е. Особенно же благоволил он к молодым мастерам и прорабам. Он не скрывал, что скучает в производственном отделе со всеми этими нормами, справочниками, арифмометрами по живой, хоть и тяжелой прежней работе.
Он любил ездить по строительным участкам, и у Саньки бывал не раз, и были они в душевнейших отношениях.
Санька безо всякой натуги и внутреннего смущения рассказывал ему про свою жизнь такие вещи, которые только близким людям и рассказывают.
И вот этот милый Балашову человек вдруг вызвал его к себе совершенно официально и говорил с ним по телефону холодным и сухим тоном. И Санька теперь терялся в догадках, что же он такого натворил ужасного, что Е. Е. так с ним стал разговаривать.
Целый день все валилось у Балашова из рук.
Он пришел к парторгу в середине дня, когда в управлении тихо и безлюдно, — начальство разъехалось по участкам, только и текла неторопливая жизнь в бухгалтерии, щелкали там счетами да шелестели сплошь исписанными цифирью бумагами.
Санька поболтался по коридору, заглянул к секретарше, перекинулся парой слов, узнал новости, попытался осторожно выведать, зачем его вызвали.
Но, к вящему его удивлению, всезнающая секретарша только пожала плечами. Глаза ее заблестели от любопытства, остренький носик заострился еще больше. Профессиональная ее гордость была уязвлена — в управлении что-то случилось, прораба срывают в разгар рабочего дня с участка, а она ничего не знает!
Она засы́пала Балашова градом вопросов, но Санька только махнул рукой, вздохнул глубоко, как перед прыжком в холодную воду, и постучал в кабинет Е. Е.
Парторг что-то считал на логарифмической линейке.
Увидев Балашова, он нахмурился, махнул рукой в сторону модернового, на хлипких ножках креслица и буркнул:
— Погоди малость, я сейчас кончу.
Санька осторожно уселся и стал разглядывать Е. Е.
Был парторг небольшого роста, сухощавый, жилистый. С морщинистого, в глубоких резких складках лица не сошел еще профессиональный загар, присущий всякому человеку, работающему круглый год под открытым небом.
Руки Е. Е. резко контрастировали с его деликатным сложением — большие, грубые, раздавленные тяжелой физической работой руки.
Парторг прошел все ступени карьеры строителя — и бригадиром работал, и мастером.
Заочно окончил строительный институт, причем окончил его уже в зрелом возрасте на удивление и зависть многим своим сверстникам.
На память о войне, на которой Е. Е. был сапером, остались два изуродованных пальца на левой руке — взрывом оторвало ему две фаланги.
Е. Е. кончил считать и молча уставился на Балашова. Санька заерзал под его взглядом и вдруг почувствовал себя виноватым. Он судорожно перебирал в памяти все свои последние прегрешения, но ничего серьезного не находил.
— В чем дело, Евгений Евстигнеевич? — спросил он.
— Это я тебя должен спросить, в чем дело.
— Ничего не понимаю! — удивился Санька. — Зачем вы меня вызвали?
— Вот и я ничего не понимаю, — задумчиво отозвался Е. Е. — В бригаде у тебя все нормально?
— В бригаде? Да вроде все. Вот рабочий контроль организовали. Сами. Зинка Морохина председатель.
Е. Е. улыбнулся:
— Про это слыхал. Это здорово! Уже и до треста дошло. Хвалят. Опыт собираются распространять. Так что вы теперь, стало быть, застрельщики. Гляди, еще прославишься, в газету попадешь. Небось и здороваться перестанешь от гордости.
Е. Е. снова усмехнулся, но тут же посерьезнел и нахмурился:
— Все это хорошо, да только одно плохо — не знаешь ты, оказывается, брат, что у тебя в бригаде гниль завелась.
— Да что случилось-то?! — Санька даже привстал. — Не томите вы меня, ради бога!
— А случилось то, чего еще в нашем управлении на моей памяти не случалось. Такая гадость, что и говорить не хочется. Я еще никому ничего не рассказывал, хотел с тобой посоветоваться. На, читай.
Е. Е. протянул Саньке захватанный грязными пальцами листок, выдранный из ученической тетради в косую линейку.
Санька в недоумении повертел его и стал читать.
После первых же строчек он побледнел, опустил руку с листком и растерянно взглянул на парторга.
— Дальше читай, — жестко приказал он.
И чем дальше читал Санька, тем больше бледнело его лицо, а губы сами собой складывались в брезгливую гримасу.
На листке аккуратными печатными буквами было написано вот что:
«Пишет Вам замордованный бригадиром Филимоновым и прорабом Балашовым честный советский рабочий. Не могут мои глаза больше глядеть на ихние шашни, преступления и шурум-бурум, а язык мой не в силах больше молчать. Желаю разоблачить негодяев и врагов трудового народа!!!»
И дальше шла такая дикая несусветица, такая подлая и наглая ложь, что Санька сперва глазам своим не поверил и подумал, что его просто разыгрывают. В письме говорилось, что он, Санька, вместе с Филимоновым берет взятки с рабочих, а если кто не дает, тех ставят на невыгодную и грязную работу; что он с Филимоновым «живут натурально, как восточные паши и ханы, гоняют честных советских рабочих за пивом себе и за водкой и хлещут, как лошади, в рабочее время, а мы у них, как рабы из Африки, то есть негры».
Боже мой! Чего только не было в этом письме! И процентовки-то прораб подделывает, и в нарядах любимчикам своим приписывает, а Филимонов, оказывается, «перепортил всех наших советских трудящихся товарищей женщин».
Кончалось письмо так:
«Сердце стонет и больно колотится в честной советской груди, а в глазах закипают и катятся оттуда бурным ручьем слезы — глядеть на такое страшное преступление против нашего народа. Не могу молчать! А не подписываюсь я только потому, что боюсь этих извергов, они на все способные, чтобы спрятать свои преступные концы в воду, и могут даже погубить недрогнувшей рукой».
Санька дочитал до конца и растерянно поднял глаза. Он попытался рассмеяться, но смеха почему-то не вышло, а получилось какое-то странное бульканье. Все это было настолько нелепо, что у Саньки просто не находилось слов. С гадливостью, будто он держал осклизлую жабу, Санька положил анонимку на край стола и взглянул парторгу в глаза.
Е. Е. сидел нахохлившись и тоже глядел на Саньку.
— И что же... что же вы, верите этому? — тихо спросил Санька.
Е. Е. нахмурился еще больше, покачал головой.
— Дурак ты, братец, как я погляжу, — отозвался он, — я о другом думаю: кто же мог написать такую мерзость? И ведь опытный, видать, анонимщик — печатными буквами накарябал. И выраженьица-то какие накручены — в глазах у него, вишь, закипает, у мерзавца. Сколько лет живу, а такое в первый раз в руки попало. Слыхал, что бывает, но сам не встречал. Сколько раз он там слово «советский» употребил?