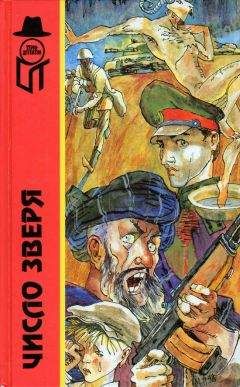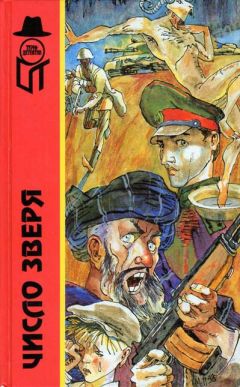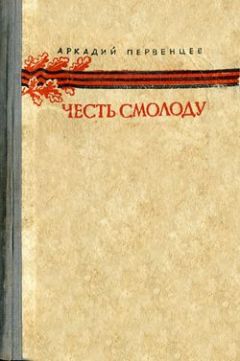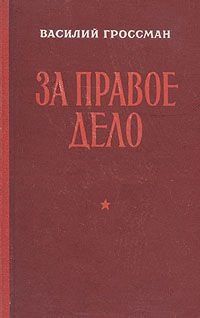Гумер Баширов - Честь
Не давала покоя своей бригаде и Юзлебикэ.
— Чем мы хуже их? — кипятилась она. — Неужто не можем работать, как работают у Нэфисэ?
Гордилась бригада Нэфисэ своей славой, но пуще всего гордились девушки словами секретаря райкома.
— Вы, — сказал он, — настоящие фронтовики! Вы гвардейцы района! Выращенный вами хлеб помогает Красной Армии.
Сегодня в бригаде Нэфисэ особенно тревожный день. Девушкам сообщили, что на току начинают молотить их пшеницу. Каждый час, каждую минуту они готовы были услышать радостную весть. Вот прибежит кто-нибудь из деревни и крикнет: «Девушки, суюнчи! Пшеницы вышло столько, сколько вы ожидали!»
А ведь, возможно, выйдет и больше.
— По моим расчетам, должно быть около ста пятидесяти пудов, — говорила Нэфисэ. — Только боюсь, как бы бригада Сайфи не растрясла да не просыпала.
Нэфисэ хотела, чтобы пшеницу с их участка молотили они сами, но Тимери не согласился:
— Пусть идет, как налажено, дети. Вы дожинайте овес, а на току покуда обмолотят вашу пшеницу.
Что бы там ни было и кто бы ни молотил, все в бригаде были уверены, что надежды их не напрасны. Ведь пробные обмолоты производились не раз. Сначала молотили при агрономе — вышло по сто тридцать пять пудов с гектара. Потом решила проверить колхозная комиссия — вышло по сто сорок пять пудов. А когда произвели обмолот по просьбе Мансурова, получилось по сто пятьдесят два пуда.
В перерывах между работой девушки весело рассуждали о том, сколько пудов зерна получат они со всех своих участков, сколько хлеба отправят на фронт, сколько выделят на семена. Только Мэулихэ не одобряла такой поспешности. Хлеб еще не только не обмолочен, но даже на ток не свезен, как же можно распоряжаться им наперед!
— Сколько бы ни получилось, пожелайте, детки, чтобы в благости, без потерь да без бед собрали хлебушко. Не сглазить бы нам его! — суеверно говорила она.
Сумбюль, уверенная в своей правоте, принималась горячо доказывать Мэулихэ:
— Да уж точно, Мэулихэ-апа! Ну вот погляди, пшеницы мы получим пять тысяч пудов. Ведь так, Нэфисэ-апа? А может, и больше. Ржи в Алымандаровском поле сколько убрали?! Ведь у нас одного овса гектаров тридцать наберется, правда, Нэфисэ-апа?
— Немного больше, моя умница, сорок два гектара.
— Я же говорю! Наша бригада вырастила столько хлеба, что не сразу и сосчитаешь! Да, Нэфисэ-апа?
Лицо Сумбюль сияло такой радостью и говорила она так убежденно, что непременно обиделась бы, если бы не услышала ответного «да». Ведь девочка уже успела написать отцу на фронт, что работает она наравне со взрослыми, что их бригада получила Красное знамя и что ждут они небывалый урожай. Теперь ей не терпелось сообщить отцу, сколько хлеба они посылают фронту.
— Эх! — мечтательно вздохнула вдруг Сумбюль. — Вот если бы мой папа узнал о нашей пшенице! Нэфисэ-апа, можно мне теперь написать отцу? Можно? Да?
Лицо Нэфисэ осветилось ласковой улыбкой; она обняла девочку:
— Напиши, милая, напиши. Вот, скажет, какая у меня дочь растет!
Беседуя так, девушки от сегодняшнего урожая перешли к будущим делам.
Застенчиво поделилась своими мечтами окрепшая за лето и еще более похорошевшая Карлыгач.
— А я, если Нэфисэ-апа не будет сердиться, с весны начну работать отдельно. Нет, до весны нельзя откладывать, начну с осени, сразу же после праздника! Не будешь сердиться, Нэфисэ-апа?
— Ах, глупенькая! Почему же мне сердиться? Наоборот, буду только рада.
— Правда? Вот спасибо!.. Только грустно мне будет расставаться с вами. Уж очень мы дружно живем, работаем весело. Но я хочу заняться тем, что больше всего люблю — буду выращивать яблони, вишню, смородину. Заложишь сад — и останется он навечно! Может, попытаться восстановить наш яблоневый сад?
А Нэфисэ завела разговор об урожаях:
— Вот мы надеемся получить по сто сорок с лишним пудов пшеницы с гектара. А ведь другие бригады тоже могли бы вырастить такой урожай.
— Конечно! — подхватила Карлыгач. — Земля у нас одинаковая, и силы равные. Только любить надо свою работу и сил не жалеть.
— А что, девушки, я скажу... — продолжала Нэфисэ. — Давайте в будущем году и по другим культурам вырастим высокий урожай... по сто пудов с гектара. Скажем, ржи — сто пудов, гречихи — сто пудов, овса... Сил у нас хватит, трудностей мы не боимся! Как думаете?
— Как ты, так и мы, — ответили подруги.
— С гектара сто пудов!.. Знаете, сколько дополнительно хлеба сможет тогда послать на фронт наша бригада?
— Несколько тысяч пудов!
— Верно!
— Чтобы работать еще лучше, назовемся фронтовой бригадой. Согласны?
— Согласны!
Карлыгач сидела на лобогрейке, правила лошадьми, а Зэйнэпбану сбрасывала сжатый овес. После каждого круга вязальщицы беспокойно спрашивали их:
— Там никого не видно?
Но со стороны гумна никто не показывался.
2
Незадолго до обеда прямо через речку к ним пришла Нарспи, девушка из Аланбаша. В своих ярких одеждах она была похожа на причудливый пестрый цветок. На ней было красное платье с широкими цветными оборками, желтый, как подсолнух, фартук, а на голове три платка, повязанные один выше другого: снизу — тонкий, зеленый, чтобы не рассыпались волосы, — белый, чтобы не припекало солнце, а сверху — алый, цветастый, — это уж для красоты.
Круглое лицо Нарспи озарилось радостной улыбкой, небольшие глаза мило прищурились. Она поздоровалась за руку со всеми вязальщицами, а Сумбюль крепко обняла и погладила по головке.
— Пришла чайку попить с вами, уж очень он вкусный у тетушки Мэулихэ! — рассмеялась гостья, отчего на щеках у нее появились две веселые ямочки.
Она подняла на ходу упавшие колоски, сунула их бережно в сноп и, проворно засучив рукава, принялась помогать Сумбюль, чтобы не стоять без дела, пока закипит самовар.
— Меня Наташа послала узнать, сколько вы получили с гектара. Вы теперь у всех на виду. Умеете, оказывается, работать, — говорила она, ловко перевязывая сноп за снопом. — Скрывать не стану, сомневались мы весной: куда, думали, им вырастить столько хлеба!
А теперь сама Наташа говорит: «Погляди, они уж и нас учить стали. Пшеница-то у Нэфисэ лучше!»
У Мэулихэ тем временем сварилась каша. На траве у речки девушки постелили цветную домотканую скатерть и выложили все, что нашлось у них в запасе. Зэйнэпбану вынула из мешка вкусный эримчик[37], который сунула ей мать, провожая в поле. Нэфисэ достала грузинского чаю и конфет. Это Айсылу привезла стахановцам угощение из района.
И хозяева и гостья разместились на траве — кто полулежа, кто поджав ноги — и, весело болтая то по-татарски, то по-чувашски, принялись пить чай.
Мэулихэ, степенно завязав платок на затылке, устроилась у самовара.
— Кушай, дочка, кушай! — угощала она Нарспи. — У вас тоже умеют делать эримчик, но ты попробуй нашего!
Завязалась оживленная беседа. Рассказывали о письмах с фронта, о раненых, вернувшихся домой, и о последних вестях из Сталинграда.
Заметив, что Нарспи ищет кого-то глазами, вспомнили про Апипэ. Она уже дня три не показывалась на работе. А сегодня утром, когда Зэйнэпбану зашла за ней, Апипэ выпроводила ее за дверь, заявив, что не может оставить гостя.
— Ей теперь все нипочем. Здоровые зубы железками покрыла и ходит, ртом сверкает. Говорят, с каким-то прохвостом хочет из деревни уехать.
Мэулихэ бросила тревожный взгляд на Сумбюль.
— Испортилась женщина, совсем испортилась, — удрученно сказала она. — Что толковать о человеке, который обуздать себя не может... Сколько увещевали, ругали, стыдили — ничего не помогает!..
— Она всех нас позорит. Ведь про нее в стенгазете так и пишут: из бригады Нэфисэ.
— Ай-яй-яй, нехорошо, очень нехорошо! — покачала головой Нарспи.
— Поговорю еще раз, а если не исправится, не знаю, что и делать с ней... — сказала Нэфисэ.
— А по-моему, выгнать из бригады! — решительно заявила Карлыгач. — Немало уже с ней разговаривали, хватит! Сплетница, лентяйка и... Не нужен нам такой человек!
— Выгнать легче всего!
— Разбаловалась, цены добру не знает! — опять заговорила Мэулихэ, наливая чашку чая Нарспи. — Пей, Нарспи, не студи... А потому не ценит добра, что и во сне не видала такой нужды, какую терпела солдатка при Николае... Вот я к примеру...
И Нарспи и все остальные были так молоды, что о старой жизни знали только понаслышке. Они слушали Мэулихэ с широко раскрытыми глазами.
— ...Работящий был у меня бедняга Джихангир, а все равно не сладко сложилась у нас жизнь. Пока сам был дома, еще ничего: тянули помаленьку хозяйство, детей растили, как могли. А тут нагрянула германская война. На улицах — плач, в поле — стон. Сегодня, скажем, пришло известие о войне, а назавтра уже всех погнали воевать. Проводила я мужа до околицы и вернулась к себе. Будто покойника вынесли из избы. А за подол с двух сторон ребята уцепились. Хлеба стоят несжатые, рожь надо сеять, подушную платить, дрова на зиму заготовить. А у самой ни коня в сарае, ни плуга под навесом, ни денег в кармане, ни разума в голове. Заметалась я: от двери к окну, от окна к двери; то из избы выбегу, то в избу... Покружилась, пометалась и решила: «Погоди, думаю, так ничего не выйдет! Надо упросить кого-нибудь ржицу посеять».